
Научная электронная библиотека
Монографии, изданные в издательстве Российской Академии Естествознания
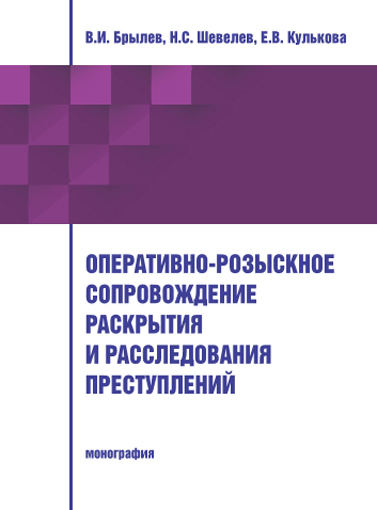
ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ РАСКРЫТИЯ И РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Брылев В. И., Шевелев Н. С., Кулькова Е. В.,
1.2. Соотношение уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельности
Оперативно-розыскное сопровождение относится к одной из проблем соотношения уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельности. Проблемы соотношения норм уголовно-процессуального и оперативно-розыскного законодательства рассматривались в работах следующих ученых: Д.А. Бедняков, Б.Т. Безлепкин, В.И. Зажицкий, Д.В. Гребельский, Е.А. Доля, В.А. Лукашов, М.П. Поляков, А.П. Рыжаков, В.Г. Самойлов, В.А. Семенцов, К.В. Сурков, А.А. Чувилев, М.А. Шматов, А.Ю. Шумилов и др.[22]
В этих работах рассматривались вопросы взаимосвязи и отличия родственных видов деятельности, высказывались различные точки зрения.
Так, В.Г. Самойлов, еще до принятия Закона об ОРД, предлагал дополнить уголовно-процессуальное законодательство положением об обязанности органа дознания проводить работу по обнаружению фактических данных, способствующих исследованию предмета доказывания и установлению истины по делу[23].
Неразрывную связь оперативно-розыскной деятельности с процессуальной отмечал В.А. Лукашов. В частности он отмечал следующие моменты:
а) единство их задач (выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений);
б) прямое указание в процессуальном законодательстве на обязанности органов дознания принимать необходимые оперативно-розыскные меры в целях обнаружения преступлений и лиц, их совершивших, а также предупреждения и пресечения преступлений;
в) направленность оперативно-розыскных мероприятий на информационное обеспечение уголовно-процессуальной деятельности органов дознания, предварительного расследования и органов судебной власти;
г) уголовно-процессуальный характер оснований для проведения оперативно-розыскных мероприятий;
д) установленное в оперативно-розыскном законодательстве право судей санкционировать осуществление оперативно-розыскных мероприятий, связанных с ограничением прав граждан;
е) установление в оперативно-розыскном законодательстве порядка использования результатов оперативно-розыскной деятельности для подготовки и осуществления следственных и судебных действий;
ж) законодательное учреждение судебного контроля за соблюдением прав и свобод человека и гражданина при проведении оперативно-розыскных мероприятий;
з) законодательное учреждение прокурорского надзора и ведомственного контроля за точным и неуклонным исполнением законов России органами и должностными лицами при проведении оперативно-розыскных мероприятий[24].
Другие авторы (В.А. Семенцов, В.Ю. Сафонов) отмечают, что связь уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельности определяется наличием у них общей цели – защиты прав и интересов личности. Кроме того, и уголовный процесс и оперативно-розыскная деятельность – это разновидности познавательного процесса и они служат предотвращению и раскрытию преступлений, а также розыску скрывшихся преступников[25].
Н.П. Водько, обобщая имеющиеся точки зрения, приводит ряд положений, указывающих на общность оперативно-розыскной и уголовно-процессуальной деятельности[26]:
1. Оба вида деятельности являются государственно-правовым средством целенаправленной защиты прав и интересов человека и общества от преступных посягательств.
2. Оперативно-розыскная деятельность во многом заимствует в уголовном процессе процедурную форму для создания собственного оперативно-розыскного производства на негласном уровне;
3. Общность обоих видов государственно-правовой деятельности заключается в единстве их назначения, целей и задач (ст. 6 УПК РФ и ст. 1, 2 ФЗ об ОРД).
4. Ряд положений оперативно-розыскной деятельности содержатся в уголовно-процессуальном законе. Например:
а) в процессе доказывания использовать результаты оперативно-розыскной деятельности, если они отвечают требованиям, предъявляемым к доказательствам (ст. 89 УПК РФ);
б) органу дознания исполнять письменные поручения следователя о проведении оперативно-розыскных мероприятий и производстве отдельных следственных действий (п. 4 ч. 2 ст. 38
УПК РФ); и др.
Ряд положений о взаимосвязи оперативно-розыскной деятельности и уголовного судопроизводства, которые мы отмечали ранее, отражены и в другой юридической литературе[27]:
– общность задач оперативно-розыскной деятельности и уголовного судопроизводства;
– указание в уголовно-процессуальном законодательстве на обязанность органов дознания принимать необходимые розыскные и оперативно-розыскные меры для установления лица, совершившего преступление;
– направленность оперативно-розыскных мероприятий на информационное обеспечение уголовно-процессуальной деятельности;
– установление в оперативно-розыскном законодательстве порядка использования результатов оперативно-розыскной деятельности для подготовки и осуществления следственных действий и проведения оперативно-розыскных мероприятий;
– некоторая общность правового регулирования деятельности субъектов уголовного судопроизводства и оперативно-розыскной деятельности; и др.
Следует подчеркнуть, что наличие у оперативных работников разведывательно-поисковой и негласной (конспиративной) оперативно-розыскной функции и отсутствие таковой у следователя обусловливает необходимость оптимального использования оперативно-розыскных возможностей в расследовании преступлений.
Вместе с тем, как отмечают многие ученые, существуют различия между оперативно-розыскной и уголовно-процессуальной деятельностью, поскольку это самостоятельные функции, существенно отличающиеся друг от друга.
Наиболее значимыми критериями их разграничения выступают:
– понятие того или иного вида деятельности;
– особенности их правового регулирования;
– принципы и непосредственные задачи;
– круг субъектов, осуществляющих уголовный процесс и оперативно-розыскную деятельность, и характер возникающих при этом правоотношений;
– сроки и способы осуществления;
– результаты, получаемые в ходе рассматриваемых видов деятельности, а также их (видов деятельности) правовое значение в реализации уголовной ответственности[28].
Следует согласиться с авторами (Н.П. Водько), которые считают, что различия между оперативно-розыскной и уголовно-процессуальной деятельностью проявляются в следующем[29]:
1. Самостоятельном характере правовой базы для их функционирования, поскольку уголовно-процессуальная деятельность осуществляется на основании УПК РФ, а оперативно-розыскная деятельность – на основании ФЗ об ОРД;
2. Различиях в начале и пределах производства в названных видах деятельности: уголовно-процессуальная деятельность начинается с возбуждения уголовного дела, а оперативно-розыскная деятельность может осуществляться до возбуждения уголовного дела;
3. Различиях в документировании обеих видов деятельности
(в уголовно-процессуальной – это в основном, постановления и протоколы о производстве следственных действий, а в оперативно-розыскной – это постановления о проведении отдельных оперативно-розыскных мероприятий, документы, содержащие фактические данные (меморандумы, справки, рапорта, сообщения акты и т.п.);
4. Различиях в результатах этих видов деятельности: в ходе следствия обнаруживаются и фиксируются доказательства виновности лиц, совершивших преступления, а в ходе оперативно-розыскной деятельности выявляются, как правило, негласно добытые фактические данные (результаты оперативно-розыскной деятельности), которые могут стать доказательствами после их закрепления в порядке, установленном уголовно-процессуальным законодательством.
Аналогичные отличия уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельности отмечают и другие авторы[30]:
– оперативно-розыскная деятельность осуществляется оперативными подразделениями государственных органов, согласно ФЗ
об ОРД, а уголовно-процессуальная относится к компетенции субьектов, указанных в УПК РФ;
– оперативно-розыскная деятельность осуществляется согласно ФЗ об ОРД и ведомственным нормативным актам, а уголовно-процессуальная – согласно УПК РФ;
– в оперативно-розыскной деятельности применяются негласные силы и средства, а в уголовно-процессуальной их использование не допускается (за исключением ст.ст. 185 и 186 УПК РФ, предусматривающия такие следственные действий, как наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и выемку, а также контроль и запись переговоров);
– в результате следственных действий могут быть получены доказательства, а в результате оперативно-розыскных мероприятий – сведения, не имеющие уголовно-процессуального доказательственного значения[31].
Говоря о соотношении уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельности (о взаимосвязи и различии), следует отметить подчиненность оперативно-розыскной деятельности уголовному процессу и необходимости согласования отдельных норм этих видов деятельности, регламентирующих использование результатов оперативно-розыскной деятельности и доказательств в уголовном процессе[32].
В связи с этим представляется справедливой точка зрения ряда авторов о необходимости «сближения» уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной функций[33].
Так, сравнительный анализ законодательства России и зарубежных стран показывает, что во многих государствах оперативно-розыскные и уголовно-процессуальные нормы взаимосвязаны и органически дополняют друг друга.
Вместе с тем, в отличие от западных стран, в России действует ФЗ об ОРД, где сконцентрированы основные принципы и правовые положения, регулирующие всю оперативно-розыскную деятельность, являющуюся стержневым фактором для всего оперативно-розыскного законодательства, чего нет в зарубежных нормах права. Хотя в большинстве государств – членов СНГ оперативно-розыскное законодательство развивается в соответствии с тенденциями, аналогичными российскому законодательству, то есть с принятием законов об оперативно-розыскной деятельности, но со своими национальными особенностями[34].
В основных развитых западных государств, например, в США закон при раскрытии и расследовании преступлений не проводит существенных отличий между следственными действиями
и оперативно-розыскными мероприятиями, результаты которых также могут быть использованы при доказывании в суде. После завершения всех мероприятий по выявлению и собиранию данных для изобличения лица в совершении преступления полицейский, который выполнял следственные и оперативно-розыскные мероприятия, представляет своему руководителю отчет о выполненных действиях, после чего все собранные материалы направляются прокурору или в суд для начала предварительного слушания[35].
В Германии оперативно-розыскные мероприятия, которые не ограничивают права человека, изложены в УПК[36].
Законодательство Швейцарии разрешает использовать в качестве доказательств видео- и звукозапись, полученные нелегальным путем[37].
В уголовно-процессуальном праве Англии и Уэльса источником доказательств могут являться доказательства, полученные полицейским агентом. При этом в законодательстве этой страны не существует положения о том, что такие доказательства подлежат исключению, поскольку полиция действовала исходя из вероломных намерений[38].
В Польше результаты оперативно-розыскной деятельности при определенных условиях признаются полноценными доказательствами. В Латвии результаты оперативно-розыскных мероприятий называются «специальные следственные действия»[39].
В УПК Республики Беларусь в статье 101 «Материалы, полученные в ходе оперативно-розыскной деятельности» указано, что данные материалы «могут быть признаны в качестве источников доказательств при условии, если они получены в соответствии с законодательством Республики Беларусь, представлены, проверены и оценены в порядке, установленном настоящим Кодексом»[40].
В 2012 г. в УПК Украины была существенно расширена система «следственных (розыскных)» действий, т.е. по существу представлены оперативно-розыскные мероприятия. Им посвящена отдельная 21 глава «Негласные следственные (розыскные) действия». Особое внимание в УПК Украины уделено осуществлению следственных (розыскных) действий, связанных с «вмешательством в частное общение» (параграф 2 гл. 21). Это
аудио-видео контроль лица, осмотр и изъятие корреспонденции, снятие информации с телекоммуникационных сетей и электронных информационных систем. Иные негласные следственные (розыскные) действия регламентированы в параграфе 3 гл. 21 (ст. 267–275) Это – обследование публично недоступных мест, жилья или иного владения лица (ст. 267); установление местонахождения радиоэлектронных средств, включая мобильные терминалы и другие устройства, активированные в сетях операторов мобильной связи, без раскрытия содержания сообщений (ст. 268); наблюдение за лицом, вещью и местом; аудио-видео контроль места, контроль за совершением преступления; выполнение специального задания по раскрытию преступной организации или группы; негласное получение образцов, необходимых для сравнительного исследования; использование конфиденциального
сотрудничества (ст. 275)[41].
К негласным следственным действиям были также отнесены:
– контролируемые поставки; контролируемая и оперативная закупка; специальный следственный эксперимент; имитация обстановки преступления (ст. 225)[42].
Представляется целесообразным включить в статью 74 УПК РФ в качестве доказательств материалы оперативно-розыскной деятельности, полученные при соблюдении требований УПК РФ.
Следует согласиться с точкой зрения, что законодатель, определив оперативно-розыскную деятельность как самостоятельный вид правоохранительной деятельности, сохранил традиционное соотношение оперативно-розыскной деятельности и уголовного процесса как функции уголовной юстиции. Соотношение оперативно-розыскной деятельности и уголовного процесса позволяет определить зависимость использования результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовном судопроизводстве от уголовно-процессуальных процедур, призванных разрешить вопрос о доступе оперативно-розыскной информации в уголовно-процессуальную сферу[43].