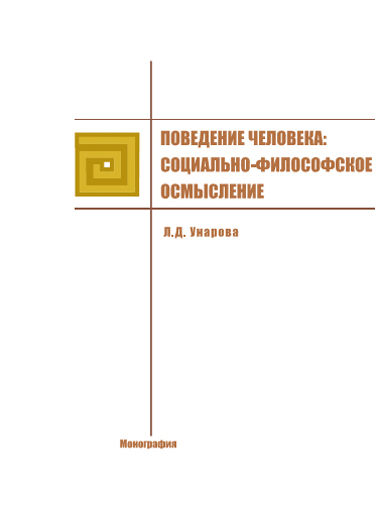Научная электронная библиотека
Монографии, изданные в издательстве Российской Академии Естествознания
3.1. Социокультурные начала нормативного поведения человека
«Я не знаю, кто послал меня в этот мир, я не знаю, что такое мир, что такое Я. Я в ужасном и полном неведении. Я не знаю, что такое мое тело, что такое мои чувства, что такое моя душа, что такое та часть моего Я, которая думает то, что я говорю, которая размышляет обо всем и о самой себе и все-таки знает себя не больше, чем все остальные. Я вижу эти ужасающие пространства Вселенной, которая заключает меня в себя, я чувствую себя привязанным к одному уголку этого обширного мира, не зная, почему я помещен именно в этом, а не в другом месте, почему то короткое время, которое дано мне жить, назначено мне именно в этом, а не в другом пункте целой вечности, которая мне предшествовала и которая за мной следует. Я вижу со всех сторон только бесконечности, которые заключают меня в себе как атом; я как тень, которая продолжает только моменти никогда не возвращается. Все, что я сознаю, это только то, что я должен скоро умереть; но чего я больше всего не знаю, это смерть, которую я не умею избежать»[263].
Бездна бытия, которая открылась паскалевскому человеку, заключается в негарантированности существования самого человека, в его одиночестве, конечности и беспомощности. В словах Б. Паскаля имплицитно содержатся философские вопросы: Как я могу выжить в этом мире? Как относиться к этому миру? Что мне положено знать? Что я должен делать? На что я могу надеяться? Как преодолеть предельное? Как обрести себя? Кто остальные?
«Существование каждого существа взывает к другому или множеству других (это подобно своего рода цепной реакции, для осуществления которой потребно известное число элементов и которые, в случае неопределенности этого числа рискуют затеряться в бесконечности подобно Вселенной, создающейся лишь посредством самоограничения во вселенской бесконечности). Тем самым оно взывает к сообщности…»[264].
Человек, будучи существом индивидуальным, не может не испытывать влияние сообщества, более того, он социально детерминирован, не может вне сообщества наличествовать и развиваться. «Я повторяю за Батаем вопрос: для чего нам «сообщество»? ответ на него дается достаточно ясный: «В основе каждого существа лежит принцип недостаточности…» (принцип неполноценности). Это и в самом деле принцип, определяющий возможности определенного существа и направляющий их»[265].
С первой же попытки установить социальные взаимоотношения появляется фактор культуры. Об этом пишет З. Фрейд: «Совместная человеческая жизнь становится возможной только тогда, когда образуется некое большинство, более сильное, чем каждый в отдельности, и стойкое в своем противопоставлении каждому в отдельности…эта замена власти отдельного человека властью коллектива и есть решающий шаг на пути культуры»[266].
Социокультурные начала нормативного регулирования процессом поведения человека предполагают рассматривать культуру как регулятивное основание жизнедеятельности человека, определяющее характер и направленность всех форм и областей социальной практики, общественных отношений, отношений к окружающему миру, конкретных видов деятельности, в которых находит свое выражение та или иная система ритуалов, обычаев, традиций, символов и смыслов.
Можно привести выразительное высказывание Г. Франкфорт и Г.А. Франкфорт о фундаментальном различии в отношении к окружающему миру современного и древнего человека. По их мнению, оно заключается в том, что современный человек относится к миру явлений, в первую очередь, как к «Оно», для древнего человека– он есть «Ты». Данная позиция выходит за границы обычной «анимистической» и «персоналистской» концепций. Она фактически явствует о некой недостаточности приведенных общепринятых теорий.
Исследователи объясняют тем, что отношение между «Я» и «Ты» абсолютно своеобразно. «Знание, которое «Я» имеет с «Ты» колеблется между активным суждением и пассивной «подверженностью впечатлению», между интеллектуальным и эмоциональным, расчлененным и нерасчлененным. «Ты» может представлять собой загадку, и все же «Ты» до некоторой степени прозрачно. «Ты» есть живое присутствие, чьи качества и возможности могут быть хоть немного расчленены на результаты активного исследования, но оттого, что «Ты», присутствуя, проявляет себя. Это не значит (как часто думают), что первобытный человек для объяснения природных явлений наделяет неодушевленный мир человеческими характеристиками. Для первобытного человека неодушевленного мира попросту не существует. По этой же причине он и не «персонифицирует» неодушевленные явления и не наполняют пустой мир духами мертвых, в чем пытается нас убедить «анимизм». Мир для первобытного человека представляется не пустым или неодушевленным, но изобилующим жизнью. Эта жизнь проявляется в человеке, звере, растении, – в ударе грома, во внезапной тени, в жуткой и незнакомой поляне, в камне, неожиданно ударившем его, когда он споткнулся на охоте. В любой момент он может столкнуться с любым явлением не как с «Оно», а как с «Ты». В этом столкновении «Ты» проявляет свою личность, свои качества, свою волю. «Ты» не может быть созерцаемо с умственной отрешенностью, оно переживаемо как жизнь, встретившееся с другой жизнью, оно вовлекает все существо человека в двухсторонние взаимоотношения. Мысли в не меньшей степени, нежели поступки и чувства, подчинены этому переживанию»[267].
Таким образом, через взаимоотношения с миром, через символический переход между различными формами космического, природного и социального бытия (живое-неживое, человеческое-сверхчеловеческое, природное-социальное и т.д.) складываются ритуалы как основа социальной регуляции, одна из форм регулятивного начала нормативного поведения, имеющего адаптивный смысл. Да, ритуалы создают порядок. Он придает участникам уверенность в четкости, неукоснительности и предсказуемости действий других участников ритуала. В ритуале сообщество представляет себя, символизирует непрерывность, вневременность, неизменность, а также процессуальность и проецирование сообщества на индивида.
В ритуале конституируется особого рода реальность – «семиотический двойник того, что было в первый раз. Ритуальная реальность с точки зрения архаического сознания – подлинная, единственно истинная реальность»[268]. В ритуалах выражается фантастическое преодоление предельных для обычного сознания возможных противоположностей.
Ритуалы и обряды – формализованное поведение, имеющее символическое значение, способствующее упрочению связей между постоянными членами группы, либо между группами, нацеленное на сохранение равновесия между человеческой группой и природой. Ритуалы создают сообщество. Можно выразиться следующим образом: сообщества есть причина, процесс и последствие ритуала. Через символическое и перформативное содержание своих ритуальных действий сообщества создают и стабилизируют свою идентичность.
Ритуальное, обрядовое поведение первично для конституирования социокультуры уже потому хотя бы, что оно строго регламентирует человеческие поступки подобно тому, как инстинкты ограничивают активность животных (у которых тоже есть свои «ритуалы»). В обряде «социокультура изобретает себя, пребывая еще внутри природы, не будучи отгороженной от таковой мифоповествованием, изображающим генезис некоего явления в неизбежной здесь ретроспективе – после того, как он состоится»[269].
Ритуалы пронизывают всю повседневную жизнь людей, прежде всего, ее семейные и производственные отношения. Каждый этап совместной деятельности происходит с твердой фиксацией с помощью ритуалов, основанных на мифе. Эта фиксация имеет преимущественно аксиологический характер, и только затем приобретает деонтологический характер. Норма всегда могла ощущаться как ценность, причем невозможно представить дистанцию между реальностью и социальными требованиями как вещь немыслимую в условиях архаического синкретизма. Ритуал – это способ аксиологической самоидентификации человека, утверждения его коллективной субъективности и права на все, что связывалось с этой субъективностью, главное их которых – право на принадлежность своему роду.
«Механизм происхождения ритуалов в человеческом обществе мыслится по схеме: социальные институты и средства социальной регуляции, обеспечивающие соблюдение традиций, базирующихся на общих мнениях, основанных на сложившихся предрассудках в силу стереотипности мышления. Это путь от индивидуального сознания и поведения к социальным стереотипам»[270]. В «переживаемых сообща» событиях складываются сообщества[271], которые влияют через отражение сознания человека, пассивное усвоение объективной системы социальных связей в заданных координатах. Влияние сообщества проявляется в способности человека осваивать регулятивные механизмы, обретать смыслопостроения. И только после этого подготовительного периода человек конструирует, воссоздает в своем сознании ту действительность, которая когда-то повлияла на него. М. Энафф видит в стремлении примитивного общества к максимуму внутреннего равновесия, то есть к гомеостазу, и соответственно к минимальной энтропии подтверждение его единства и упорядоченности мира[272].
У юкагиров – одного из автохтонных малочисленных народов Севера – «каждая река, озеро, ручей, как все предметы в природе, имеют своего «хозяина», так называемого Погиль. Все сверхъестественные силы у юкагиров делились на две группы:
1) благодетельные для человека существа;
2) враждебные человеку существа»[273].
Первых было больше, но при нарушении человеком установленных ими законов и норм поведения они могли стать враждебными. До тех пор пока человек не переступит границ дозволенного по отношению к Земле и ее важнейшим объектам, а также к другому человеку, они могут быть великодушными и терпеливыми, потому как не применяют мер наказания сразу же после совершения человеком какого-либо первого ньалльэ – греха. Предполагается, что человек мог совершить что-то предосудительное по ошибке, или по незнанию. А если совершается нарушение злонамеренно, то «духи» являются человеку, после чего он непременно умирает, самое страшное наказание заключается в том, что вымирает весь его род. Обучают индивида родители и старшие рода нормам и правилам поведения. Слова, указания, запрещения, которые он раньше слышал от других, со временем становились его внутренними средствами организации поведенческой деятельности. Репрезентация мира у северных народов сакральна: каждая вещь должна пребывать на своем месте, и это делает ее сакральной, поскольку при нарушении, хотя бы даже мысленном, этого оказался бы разрушенным весь мировой порядок. Ф. Ницше в «Генеалогии морали», ответственным за погрешности индивида объявляет общество, которое требует от своих членов – в целях воспроизводства – поддержания коллективной памяти. «Больное животное», человек, от спонтанного от природного поведения, которым руководят инстинкты, и печется о культе предков, чьим всегдашним должником он оказывается. Отрыв от естественного поведения, невозможного без «забывчивости» усиливается религиозной и правовой «мнемотехникой», назойливо угрожающей индивидууму карой за свободное волеизъявление. «Здесь царит убеждение, что род вообще существует только благодаря жертвам и стараниям предков – и что он обязан уплатить им это посредством жертв и повиновения»[274].
Воздействие на поведение человека возможно по другой схеме, сформулированной Б.Ф. Поршневым, исходным пунктом которой является прескрипция (предписание). Если это не срабатывало, то требовался новый знак – форманта (разъяснение). Чтобы усилить прескрипцию необходимо:
а) соотнести ее с суммой ценностей, которые приняты в общности («хорошо» и «плохо»);
б) перенести прескрипцию в систему умственных операций самого индивида с информированием о последствиях[275].
Организация поведения и сознания создает соответствующую картину мира, адаптационную задачу, которая трансформируется в стеротипно-адаптивное поведение.
Как показывает Э.С. Маркарян, дальнейшая перспектива социального стереотипа однозначна: при наличии во всяком обществе мощных механизмов сохранения и воспроизведения (то, что он называет с регулятивной подсистемой) стереотип поведения с ранее адаптивным свойством в качестве ритуала многократно воспроизводится в течение длительного времени уже после того, как изменилась среда[276]. Действо перестает быть адаптивным, но сохраняет при этом ритуальное значение. Поэтому традиционное общество с развитой системой ритуального поведения вовсе не является автоматически адаптированным обществом, особенно в длительной исторической перспективе.
Вообще надо признать, что всякое поведение имплицитно определяется как адаптация. Исходя из этого, мы выскажемся так – основная функция стереотипного поведения очевидна – это адаптивная функция. Сие положение объясняется, во-первых, тем, что в эволюции отбираются индивидуально значимые (эгоцентрические) поведенческие структуры. Во-вторых, стереотипизация – это путь экономии действия: поведение по принципу проб и ошибок в каждой конкретной ситуации, безусловно, невыгодно, так что действия по заранее сформулированному шаблону есть наиболее оптимальный способ выбора из многообразия возможностей. В-третьих, стереотипность унифицирует реакции, используемые индивидами в контактах.
Ритуальному поведению присуща аналогичная адаптивная функция: «во многих случаях удобнее поступить «как принято», чем каждый раз решать задачу: выбирать наиболее целесообразное поведение»[277]. Свободное поисковое поведение в повседневной жизни встречается реже, поэтому индивид испытывает, чаще всего, дезадаптацию при разрушении его системы ритуального поведения.
Оставаясь, с одной стороны, природным существом, с другой стороны, человеком, живущим в мире символов, в мире особых культурных и приобретающих вещественную силу образований, он испытывает некий дисбаланс. «И он вот так раскорячен над пропастью между этими вещами: с одной стороны – символы, а с другой стороны – продолжающаяся природа, натура…то состояние, которое Тютчев называл состоянием как бы на пороге двойного бытия»[278]. М.К. Мамардашвили вполне обоснованно считает «ритуалы и многие другие культурные предметы» тиглями, носителями воспроизводства «всего этого во времени вопреки хаосу»[279].
Таким образом, стереотип, став ритуалом, приобретает независимость от индивида, включается в социальную структуру и становится регулятором его поведения. Вследствие этого ритуал принимается индивидом в результате как бы свободного выбора. Поэтому ритуальное поведение, потребность в нем не диктуется природными условиями существования, они приобретают смысл лишь в социальном контексте как средство поддержания и воспроизводства социокультурного единства. Следовательно, в отличие от стереотипа, основная функция ритуала – саморегулятивная, а его адаптивная функция, которая и здесь присутствует, несомненно, является подчиненной. Различие в функциях ритуалов и стереотипов позволяет нам ответить на вопрос о их целях. Конечные цели их едины, но на разных уровнях: индивидуальном и социальном. Цель стереотипного поведения – в воспроизводстве индивидуально-ценностного поведения, в сохранении преемственности; конечная цель ритуального поведения заключается в обеспечении социального единства сообщества. Еще следует помнить, что «ритуалы независимы от своих исполнителей, они в прямом смысле являются продуктами поведения»[280].
Можно отметить ряд специфических свойств ритуалов, которые характеризуют последнее как социально обусловленные, реляционные признаки: в отличие от стереотипа операциональное поле ритуала очень широко, он может быть нецеленаправленным; ритуал, как правило, условнее, конвенциональнее и общепонятнее; ритуал всегда имеет особую, саморегулятивную цель – создание поведенческого и психологического единства в сообществе[281].
Стереотипы и ритуалы являются основой обычаев – формы регуляцииповедения, которая вырабатывается и «воспроизводится в определенной социальной общности и является привычной для ее членов» на протяжении длительного времени[282].
Процесс стереотипизации поведения есть освоение среды, что требует, естественно, усилий со стороны индивидов. А выработанный и интернализованный стереотип приобретает новую функцию: он позволяет автоматически распознавать и предпочитать «своего в своем». В этом и есть функция регуляции взаимодействия между индивидами. В стереотипе эта функция вторична и выступает как подчиненная по отношению к функции адаптивной. Регулятивная функция предъявляет к стереотипу требования автономности и самоценности и потому противоречит его адаптивной функции. С помощью стереотипизации накапливаемая информация представляет собой некую сумму знаний, умений, организованный опыт, который благодаря наличию структуры может быть передан во времени и пространстве, что ведет, как известно, к формированию обычаев. Они представлены как «унаследованная стереотипная форма социальной регуляции» поведения[283]. Обычаи служат средством приобщения индивида к социальному и культурному опыту, позволяют не только осуществлять отбор информации и опыта, сохранять их, но и обновлять, они регламентируют поведение индивидов, поддерживают внутригрупповую сплоченность, освящают различные объекты и сложившиеся социальные отношения. Следовательно, хранение, передача, аккумуляция, упорядочивание, а также отбор наиболее значимых фрагментов знания и опыта явились действенным средством для компенсации энтропийных потерь, но и для противопоставления эктропии.
Стереотипизация ориентирована на внутренние механизмы самоорганизации системы. «Способность к самоорганизации и, как следствие, устойчивость к внешним воздействиям обусловлена способностью к возникновению когерентных состояний в системе, то есть способностью отдельных подсистем и элементов синхронизировать свои действия на основе согласованного принятия решений. Чем сложнее система, тем большее место в ее жизнедеятельности занимают самоорганизация, саморегуляция, координация действий составляющих ее подсистем, согласование внутренних процессов и т.п., и сохранение этого опыта обеспечивает системе ее целостность и идентичность»[284].
Регулятивный характер стереотипов сближает их с понятием социальной нормы – базисной категории социального контроля. Приемлемую точку зрения на их соотношение выражает К.С. Сарингулян: «Любая единица аккумулируемого и транслируемого традицией социального опыта, или, говоря иначе, любой составляющий содержание традиции стереотип деятельности, коль скоро мы рассматриваем его под углом зрения того, как он реализуется в деятельности людей, что обеспечивает его массовое приятие и устойчивую повторяемость, выступает как норма»[285]. Основная же функция ритуально-обрядового поведения – саморегулятивная. По мнению Э.С. Маркарян, именно в ритуально-обрядовой деятельности индивидов «следует видеть внутренний источник самодвижения и активности социальной системы»[286]. Сообщество, возникнув в силу действия по М. Бланшо «принципа недостаточности (принципа неполноценности)» как адаптация к среде и обеспечение совместной деятельности индивидов, в своем развитии формирует и выдвигает ряд новых специфических потребностей, которые не имеют индивидуально-витального значения, а являются потребностями поддержания самого сообщества как социальной системы, как интегрированного целого. Возникает саморегулятивная подсистема социальной системы – как средство реализации этих потребностей, активность которых направлена вовнутрь, на регуляцию структуры взаимодействий индивидов и ради поддержания на этой основе целостности всей системы.
Непосредственным механизмом социорегулятивной подсистемы является институционализация – установление правил действий, норм, упорядочение поведения, регламентация. Достигается это с помощью традиций. Под традицией Д.Б. Зильберман предлагает понимать «не какой-либо действительно существующий объект, но всегда некоторый способ отношения к чему-то, что мы полагаем существовавшим в прошлом. Но прошлое – не вещь, а отношение, и потому это нечто легко может оказаться и в настоящем, и в будущем. Ведь традиционное отношение – это проецирование норм нынешнего существования в прошлое, да и притом еще превращение этих норм в объекты оценочного отношения, т.е. в ценности»[287]. Хотя ценностям посвящен следующий параграф, тем не менее, продолжим мысль философа. Данное изложение свидетельствует о смене «модальностей понимания собственной традиции: нормы действуют в непосредственной социальной жизни, т.е. как бы существуют в деонтической модальности, а ценности, предположенные в прошлом, но актуально не данные в объектном представлении (поскольку ценности вообще не могут быть так даны) – в гипотетической. Но при таком способе понимания собственной культурной традиции мы совершенно отвлекаемся от аподиктического модуса тех же норм: нас интересует не то, как эти нормы действуют в настоящем, а то, чем они были в прошлом»[288]. Он фиксирует факт того, что «старые традиции держат мертвой хваткой»[289].
А.Дж. Тойнби убежден в том, что человек – первичный, но едва ли не самый сложнейший духовный ингредиент любой исторической реальности. Он подсказывает нам, что «каждое поколение, подобно карме, влачит на себе все то, что было содеяно предшественниками. Ни одно из поколений не начинает жизнь в условиях полной свободы, но начинает, как узник прошлого. К счастью, узник это не беспомощен, он располагает силами сломить рутину унаследованных привычек, но это дается лишь могучим усилием, и привычек не переломить до конца. Свобода человека не иллюзорна, но и никогда не полна»[290].
Традиция включает в себя то, что передается, то есть определенный объем социокультурной информации, необходимый для нормального функционирования и развития социума, а также то, как и каким образом осуществляется данная передача, иначе – «коммуникативно-трансляционно-трансмутационный способ внутри – и межпоколенного взаимодействия людей в рамках той или иной культуры (…) на основе относительно общего понимания и интерпретации накопленных в прошлом данной культуры (…) смыслов и значений »[291]
Поэтому обеспечение поведения на основе традиций идет извне, со стороны социокультурной системы, и на уровне индивида интериоризируются через социализацию и инкультурацию.
К специфическому типу регуляции поведения людей относится мораль (нравственность). Она относится к так называемым «неписаннымзаконам», реализует свою регулятивную функцию посредством обыденного сознания. Мораль генетически восходит к феномену обычая. А.А. Гусейнов и Р.Г. Апресян пишут: «Существуют различные попытки развести понятия морали и нравственности. Наиболее распространенным является понимание под моралью субъективного аспекта соответствующих поступков, а под нравственностью – сами поступки в их объективно развернутой полноте: мораль – то, какими видятся поступки индивиду в его субъективных оценках, умыслах, переживаниях вины, а нравственность – то, какими на самом деле являются поступки человека в реальном опыте жизни семьи, народа, государства. Можно выделить также культурно-языковую традицию, которая понимает под нравственностью высокие основополагающие принципы, а под моралью – приземленные, исторически изменчивые нормы поведения; в этом случае, например, заповеди бога именуются нравственными, а наставления школьного учителя – моральными.
В общекультурной лексике все три слова, включая этику, продолжают употребляться как взаимозаменяемые»[292]. Авторы именуют «этикой» науку, область знания, интеллектуальную традицию, а «моралью» или «нравственностью» называют предмет этики, понимая их как синонимы. Мы будем руководствоваться в своей работе их авторитетным мнением в отношении понятий морали и нравственности.
Нравственный закон дан человеку, «чтобы он жив был им», и без существования человеческого общества нравственность есть только отвлеченное понятие[293]. В самом деле, нравственность не может ограничиться жизнью отдельного человека, ибо жизнь человека протекает в обществе. В.С. Соловьев называет три социальные ячейки, три вида «собирательного человека», в которых и проявляется моральное лицо индивида – семья, народ, человечество.
Мораль открыл Сократ, первым обратившись за обоснованием моральных норм, вопрошая Менона: «Что такое добродетель? Уж не думаешь ли ты, будто кто-нибудь знает, что такое часть добродетели, не зная, что такое она сама?»[294].
Р. Декарт, родоначальник европейского рационализма, тоже выражает некое сомнение, заявляя: «Ибо, если бы я всегда ясно знал, что истинно и что добро, то никогда не затруднялся, как мне судить или какой сделать выбор»[295]. Он дает совет, прежде всего, составить себе правила морали, достаточные для руководства в житейских делах и считать, с другой стороны, что«большинство голосов не есть неопровержимое свидетельство в пользу истин»[296].
В «Рассуждении о методе» он излагает основные правила морали, нравственности:
1. Подчиняться законам и обычаям моей страны, блюдя религию, руководствоваться наиболее умеренными и далеким от крайностей мнениями.
2. Оставаться возможно более твердым и решительным в своих действиях и, приняв даже сомнительное мнение, неуклонно следовать ему, как если бы оно было достоверным.
3. Стремиться побеждать скорее себя, чем судьбу и менять скорее свои желания, чем порядок мира, поскольку нет ничего такого, что было бы целиком в нашей власти, кроме наших мыслей.
Значит, правильный выбор можно сделать, только, если умеешь различить одновременно, что есть истина и добро; правильно судить, чтобы хорошо поступать. А из «Временных правил морали» следует, что человек должен руководствоваться нравственными нормами, чтобы «продолжать как можно счастливее» жить методами правильной добродетельной жизни. Никому из людей не подвластен внешний мир, во власти человека только внутренний мир, мир его мыслей[297].
Р. Декарт с его субъектно-объектным видением мира является ключевой фигурой в европейской культуре, поэтому значимы его этические оценки(правильное поведение – правильное мышление), являясь необходимыми для разума и познания.
И. Кант не сводит моральность к обязанностям, а также то, что внешняя атрибутика поведения не может считаться показателем моральности. Человек находится между миром природы и миром свободы, между свободой и необходимостью, и за ним остается право выбора, актуального жизненно-участного самоопределения.
Однако А. Шопенгауэр, наполненный скепсисом, полагает, что пытаться изменить природный эгоизм человека моральным воздействием равносильно тому, что путем фигового листочка прикрывать его, но он «все-таки постоянно откуда-нибудь да выглядывает»[298].
Невозможность морального воздействия объясняется: во-первых, первичностью воли по отношению к разуму, во-вторых, предельным детерминизмом воли и ее мотивов по отношению к характеру, в-третьих, постоянством самого характера человека. Имея в виду то, что основные мотивы воли представляют собой эгоистические влечения злобы и своекорыстия и не имеют ничего общего с моральными ценностями, А. Шопенгауэр считает, что «эгоизм – колоссален, он возвышается над миром. Ибо, если бы каждому отдельному человеку был предоставлен выбор между его собственным уничтожением и гибелью всего прочего мира, то мне нет нужды говорить, куда в огромном большинстве случаев склонился бы этот выбор. Сообразно тому, каждый делает себя средоточием мира»[299]. И все же есть место нравственности во взглядах этого философа, вопреки изложенному выше, процесс этот «достоин удивления, даже полон тайны. Это – поистине великая тайна этики, ее первофеномен и пограничная линия, переступить за которую может дерзать еще только метафизическое умозрение. Мы видим, что в этом процессе та перегородка, которая по светочу природы (как древние теологи называли разум), совершенно отделяет одно существо от другого, устраняется, и «не-Я» до некоторой степени превращается в «Я»[300].
Добро состоит в создании тех условий, при которых мир может доопределиться посредством свободного действия индивида.
«В деле борьбы со злом и нравственным совершенствованием жизни надо отчетливо различать две совершенно разнородные задачи: задачу внешнего обуздания зла, ограждения жизни от его гибельного действия и задачу сущностного искоренения или преодоления зла, совпадающую с задачей органического взращивания сил добра. Так как и добро, и зло, по существу, силы порядка духовного, то и взращивание добра и сущностное искоренение зла возможны только в порядке духовного действия изнутри на человеческую волю или на душевный строй личности, то есть в порядке духовного воспитания, которое мыслимо только в стихии свободы и есть в конечном свете свободное самовоспи-
тание – свободное восприятие внедрение в душу благодатных сил, под действием которых зло как бы само рассеивается, исчезает как тьма перед лучом света»[301].
В.А. Лефевру удалось смоделировать механизм этической рефлексии. По сути дела им был открыт сам факт этической рефлексии, то есть рефлексии как системы оценок собственных и чужих представлений и намерений. Наиболее удивительным представляется результат о том, что компромисс между добром и злом ведет к конфронтации с людьми, в то время как неприятие объединения добра и зла помогает достичь компромисса с противниками. Субъект, для которого объединение добра и зла оценивается негативно, будет проявлять осторожность при защите достигнутого добра или при его достижении, чтобы не породить новое зло. Такая установка в реальности ведет к компромиссу с людьми. И наоборот, субъект будет любой ценой защищать достигнутое, не считаясь с оценкой используемых средств, если он уверен, что достигнутое добро не испортится при использовании дурных методов. По сути, альтернатива этих этических систем сводится к выбору между двумя символическими равенствами:
1) добро + зло = зло;
2) добро + зло = добро.
Однако в этих уравнениях невозможно уловить разницу между абсолютным благом и относительным благом. Важен ответ на вопрос: можно ли достичь абсолютного блага с помощью неблаговидных средств. Ю.А. Шрейдер предлагает ответить при помощи двух возможных вариантов известной библейской притчи об Аврааме, принесшем в жертву Богу своего единственного сына Исаака:
1. «И пришли они на место, о котором сказал ему Бог, и устроил там Авраам жертвенник, разложил дрова…» Очень любил Авраам своего первенца Исаака, но еще больше он любил Бога; и еще до того, как связать Исаака и возложить его на жертвенник, Авраам ударил сына ножом, ибо боялся, что дрогнет его рука. И не успел Ангел Господень воззвать к Аврааму, ибо тот думал лишь о том, чтобы принести жертву, которую потребовал от него господь. Но не одобрил Господь слепое рвение Авраама и не исполнил обетование свое.
2. «И пришли они на место, о котором сказал ему Бог, и устроил там Авраам жертвенник, разложил дрова, и, связав сына своего Исаака, положил его на жертвенник поверх дров. И простер Авраам руку свою, и взял нож, чтобы заколоть сына своего». Но не смог Авраам принести в жертву Бога своего сына, разрезал ножом веревки и отпустил Исаака, а сам пошел, сетуя на слабость своей любви к Богу и веры в Его обетование.
3. Первый вариант притчи – типичное следование этической системе, рекомендующей компромисс добра и зла. Второй вариант – противоположная этическая система. Авраам в первом случае демонстрирует безграничную веру в Бога, во втором он понимает, что Бог не хочет убийства его сына. Противоречие снимается в варианте, описанном в Библии: «Ангел сказал: не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего; ибо теперь Я знаю, что боишься ты Бога и не пожалел сына твоего, единственного твоего, для Меня»[302].
Если отказаться от абсолютных масштабов, будь то рациональные идеи или моральные ценности, то на что может опереться человек в своем поведении? Если нет разницы между добром и злом, между правдой и ложью, то каким окажется общество, в котором отсутствуют универсальные моральные нормы?
Главным образом, самые основные нормы, составляющие ту или иную культуру, сосредоточены в тех этических предписаниях, с помощью которых общество регулирует поведение своих членов, – в том, что Фридрих Ницше когда-то назвал «языком добра и зла».
Моральное поведение современного человека опирается не на абсолютные нормы, а реализуется как размытая, спонтанная, сингулярная и дискреционная линия, при которой осуществляется выбор между позициями: «мне это надо» и «мое ли дело», «в чем моя выгода» и «что я теряю». Разрушение морали начинается уже тогда, когда человек позволяет себе задать известный библейский вопрос: «Разве я сторож брату моему»? «Конечно же, я сторож брату моему, я был и остаюсь моральной личностью»[303]. Данное обстоятельство делает этическую рефлексию морали весьма актуальной, и мораль, наряду с ритуалом, обычаями, традициями, являет собой «безусловное, абсолютное, вечное» в системе начал нормативного поведения. Она «обволакивает всех, стягивая их к единому человеческому основанию»[304].