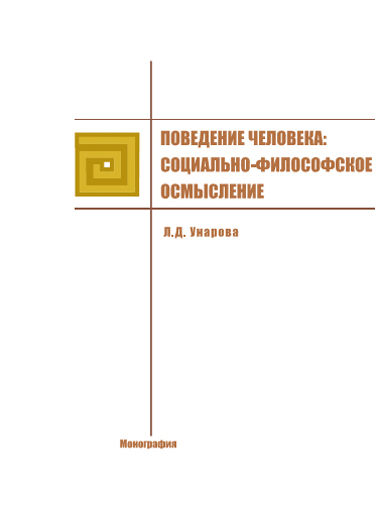Научная электронная библиотека
Монографии, изданные в издательстве Российской Академии Естествознания
3.4. Правильное поведение: общее и особенное в поведенческом опыте Востока и Запада
Восток есть Восток, Запад есть Запад… Человек Востока и Человек Запада … За этими дихотомическими конструкциями подразумевается одна планета и один вид человека homosapiens. Нет Востока, нет Запада, а есть два модуса одного Целого и Единого.
Основная идея данного параграфа заключается в том, чтобы раскрыть универсум «правильное поведение» на основе социокультурного поведенческого (практического и мировоззренческого) опыта Востока, перемеженного созвучными идеями западной философии. Предметом нашего интереса станут поведенческая культура и этические традиции людей, проживающих в этом регионе, позволяющих найти в них общечеловеческое, полезное и ценное.
Мы полагаем, что и современные реалии Востока могут представлять собой достаточный материал, на котором можно проследить функционирование национальной парадигмы мышления и основывающейся на ней поведенческой модели, насчитывающий длительный исторический промежуток. Социокультурные архетипические особенности, укорененные в мышлении, привычках, традициях и обычаях, обладают свойством в той или иной мере воспроизводиться на новых уровнях, выживая в современных постмодернистских условиях, функционируя в разных сферах общественного бытия, накладывают на них свой интродуктивный отпечаток.
Предваряя дальнейшее разворачивание материала данного параграфа, выражаясь суммарно, отметим, что для дальневосточной интеллектуальной традиции характерна невычлененность этики, слияние ее с широким спектром мировоззренческих и социально-политических, а также экономических представлений.
Если западного человека мы представляем как устремленного ввысь, к индивидуальной свободе, то восточный человек больше занят строительством правильных отношений по горизонтали с окружающими людьми, чтобы гармонично вписаться в социум.
Далай Лама XIV Тензин Гьяцо высказывается о том, что правильное поведение требует сознательной подготовки, а также он говорит о необходимости обучения и знания того, что оно такое. Его Святейшество выражает уверенность в глубинной природе человека – доброте и сострадании[396].
Известно, что философская мысль на Востоке на протяжении длительного времени существовала исключительно в рамках буддийских доктрин. И японская философия, не став исключением в таком развороте истории, зарождалась в ходе распространения буддийского вероучения. В страну, главным образом, из Китая проникали учения буддийских и конфуцианских школ, наибольший вклад внесли дзен-буддийские школы, поскольку они проповедовали учение о достижении «просветления» посредством отрешения от повседневности и самоуглубленности. С XVII века на смену буддийскому учению пришло конфуцианство, которое приобрело оригинальное, собственное японское видение мира.
Затем по мере возвышения конфуцианства философская система распространялась в виде феодальной этики как введение к конфуцианскому учению, а некоторое время спустя, во второй половине периода Токугава, прогресс в познании природы, считает Х. Нагата, сделал возможным существование философии[397]. Однако японское конфуцианство так же не углубляется в вопросы познания природы, а развивается исключительно как этическое мировоззрение. Таким образом, в Японии не складывается единая собственная мировоззренческая система, а формируется комбинация элементов буддизма, конфуцианства и синтоизма. Они в той или иной мере присутствуют в каждом идейном течении и лежат в основе общественного сознания. Кстати, можно привести характерные слова Н.В. Мотрошиловой, которые не умаляют достоинства, а подчеркивают своеобразие японской философии, которой было «не дано сплавить воедино великие основные формы мировоззрения», но «чистый свет истины…уловим только в по-разному преломленных лучах»[398].
Один из основателей японского буддизма царевич Сё:току составил наставление, как вести себя, всем служилым людям, сановникам и чиновникам, в которых есть такие примечательные слова, имеющие этико-поведенческую направленность: «не приходите в ярость на людей из-за того, что они – другие…он считает что-то хорошим, а я – плохим. Я считаю что-то хорошим, а он – нет. Я не обязательно мудр, он – не обязательно глуп. Оба мы – лишь люди. Кто может точно определить меру хорошего или дурного? Оба мы и мудры, и глупы – словно кольцо, что не имеет концов»[399].
Из данного наставления становится ясно, что правильным поведением можно считать поведение осмысленное, размеренное, то есть поведение, основанное на понимании различия и равенства между людьми, соблюдения меры и необходимости рефлексии, поведение, приносящее в итоге удовлетворение самому человеку и его окружающим. Однако эти требования направлены узкому слою людей и явно недостаточны для полного представления о универсуме «правильное поведение».
Исследователь Р. Бенедикт характеризует восточную (имеется в виду японскую) культуру как культуру, основанную на стыде[400].
С ее подачи в исследовательской практике находит применение типологическое различение культур как «культуры стыда» и «культуры вины», которые отражают особенности сознания и поведения человека Востока и Запада.
Р. Бенедикт выдвигает тезис, что при «культуре стыда», человек испытывает данное чувство, боясь порицания со стороны других людей. Человек боится мирского суда, а в отсутствие оного, ему нечего стыдится. В случае оглашения или известности нарушения человеком общепринятой нормы, им могут пренебречь. Подтверждением тому является ссылка С. Хакамада на то, что индивид в Японии боялся более всего отлучения от общины и психологического давления, ему легче и привычнее подчиниться нормам и правилам. Видимо, поэтому в обществе действовала незыблемость исполнительской дисциплины, в частности, в стране выполнялся строжайший запрет «давать ночлег даже на одну ночь беглым, ушедшим в монахи, отшельникам, странствующим монахам, торговцам лошадьми, несемейным, сбежавшим из других мест крестьянам и родственникам»[401].
Если в Европе действует правило: «мой дом – моя крепость», то в Японии семья легко проникаема со стороны общества, власти, общественного мнения.
Неспособность же следовать четким и строго обозначенным ориентирам правильного поведения, неспособность сбалансировать обязанности или предусмотреть случайности является постыдной (хадзи). Приоритет стыда означает, что любой человек вынужден пристально следить за суждениями окружающих о своих поступках, и строить ориентиры своих действий с оглядкой на эти мнения[402].
Понятно, что стыд – это результат публичного порицания человека и ответная реакция на него. Однако человек «культуры стыда» не кается в своих «грехах», он не испытывает чувства вины перед собой, пока о его проступке не знают другие, с точки зрения Р. Бенедикт.
Стыд может быть определен как корень добродетели. Человек, который к нему чувствителен, будет соблюдать требования правильного и хорошего поведения, и соответствовать его канонам. «Человек, который знает стыд», переводится как «добродетельный человек», иногда – как «человек чести»[403].
Мы не можем не остановиться – после того, как мы рассмотрели конкретные составляющие «культуры стыда» на примере японской нормативно-ценностной парадигмальной практики – на иной, русской и западной, античной в том числе, философской интерпретации, на сей раз касательно проблемы стыда и связанных с ним понятий блага и добродетели.
«Я стыжусь, следовательно, существую» – так заявляет В.С. Соловьев[404]. Из этого следует, что стыд представляет собой одно из проявлений сущего в человеке. Соловьевская методология, обращаясь к стыду, ищет критерий, которым следует руководствоваться человеку, она направлена на пересмотр оснований и принципов поведения человека. Именно «чувство стыда отличает человека от животного. Стыд, жалость, благоговение – вот три элементарных переживания, на которых стоит нравственность. Каждая из этих основ может рассматриваться с трех сторон: как добродетель, как правило действия и как условие известного блага»[405]. Стыд понимается философом как добродетель. Добродетелью, может быть то, в чем не стыдно совершенствоваться и созидать себя. С контекстом японской социокультурной поведенческой традиции мнение В.С. Соловьева, на наш взгляд, созвучно и гармонично прилагаемо.
По признанию феноменолога и экзистенциалиста Ж.П. Сартра: «Стыд есть интимнейшая социальная цепь, приковывающая нас – еще до всех конкретных правил, которым следует совесть, – к общему стандарту поведения»[406]. В своем генезисе, стало быть, по Сартру, стыд первичнее совести, более того, он является истоком совести индивида, ведущей к самоконтролю, формулированию для себя нравственных обязанностей, требования от себя их выполнения, собственной оценки самого себя и своих поступков. А вот уже совесть – это проявление нравственного самосознания человека, которая имеет особенность выражаться во внутренних эмоциональных переживаниях.
И Сартр поразительным образом нанизывает, как звенья одной цепи, следующие принципы проявления стыда в поведении человека:
1. «Я стыжусь того, чем я являюсь».
2. Стыд в своей первичной структуре есть стыд перед кем-то.
3. Я стыжусь, каким я являюсь другому.
4. Стыд по природе является признанием. Я признаю, что я являюсь таким, каким другой видит меня[407].
Данная цепь завершается достаточно сложным по составу образованием: «Речь тем не менее не идет о сравнении того, чем я являюсь для себя, с тем, чем являюсь для другого, как если бы я находил в себе, по способу бытия Для-себя, эквивалент того, чем я являюсь для другого... стыд является непосредственным содроганием, которое меня охватило с головы до пят без всякой дискурсивной подготовки»[408].
Индивид, носитель стыда, сам трактует свое поведение и придает значение своему опыту. Обладая самосознанием, сартровский «стыдящийся» человек в бытии-для-себя свободен и одновременно с этим тотально ответственен за себя в плане того, «каким я являюсь другому». Значит, стыд проявляется только перед другим: «Вульгарным не бывают в полном одиночестве. Стыд есть мой стыд перед другим»[409].
Сказанное выше позволяет сформулировать то, что стыд обязан своим рождением социальности человека, его пребыванию в группе, взаимодействию с Другим. Стыд – это есть объективированное чувство человека нормативно-долженствующим быть.
И все же остается нерешенным вопрос: какова природа стыда – этическая или нравственная?
Вернемся к В.С. Соловьеву, он трактует стыд как то, что удерживает человека от неумеренных чувственных наслаждений. Мы не подвергаем сомнению данный тезис, однако и здесь дело не обходится без трудностей, и на этот раз можно заострить внимание на положении, выдвигаемом философом, что только на стыде нравственности не построишь. И с этой мыслью философа мы солидарны, так как, по его мнению, стыд делает человека аскетом. Однако «аскетизм сам по себе еще не есть добро и, следовательно, не может быть высшим или безусловным принципом нравственности»[410].
Далее мы последуем за движением его аргументированной позиции по поводу правила нравственного действия: «Жалость есть единственная настоящая основа альтруизма, но альтруизм и нравственность не одно и то же: он есть только часть нравственности»[411]. Затем следует, что и одного альтруизма явно недостаточно для построения нравственности. Хотя, «несомненно, что жалость, или сострадание, есть действительная основа нравственности, но явная ошибка Шопенгауэра состоит в том, что он признает это чувство единственною основою всей нравственности»[412]. Поэтому жалость, сострадание и милосердие –
обязательное дополнение к стыду, ограничивающему животные порывы нашей души. По В.С. Соловьеву, у стыда есть то, что позволяет ему выступать в качестве обязательной основы основ нравственного, иначе, правильного поведения. «Развратник, обжора и пьяница может быть добрым и сострадательным, однако моральной личностью такого человека назвать нельзя» в виду утери у них или неразвитости чувства стыда[413]. Что и требовалось доказать: стыд обязательно выступает как непременный индикатор правильности (нравственности) человеческого поведения.
Третье «переживание» или условие нравственного поведения – благоговение – уверенность в разумном смысле своего существования. В.С. Соловьев называет благоговение религиозным чувством, но оговаривает, что оно может носить светский характер: благоговеть можно перед предками, перед обществом, народом, семьей, сформировавшими человека как культурную личность. Не только испытывать признательность должен человек нравственный за свое становление, но и призван оплачивать долг.
Такой человек задается вопросом: зачем я живу. И отвечает на него: чтобы творить Добро, Благо. А творить Добро, Благо я могу только в том случае, если верю в его значение, в его обязательность, в его величие. Созидать Добро – значит быть добродетельным.
Физическая и духовная добродетель по своей космической сути не что иное, как симметрия частей, на взаимодействии которых держатся как тело, так и душа. Правильнее было бы понимать это слово не только как«благо», но и как «ценность», ибо такое понимание показывает связь «ценности» с тем, кто ею владеет и для которого в этом владении есть «благо», то есть «хорошее» и «правильное».
Значимым является мнение Г.-Г. Гадамера относительно роли блага в поведении человека: «Не существует такого поведения, которое оправдало бы себя иначе, чем принимая в расчет само благо… То, что является «благим», не может считаться таковым просто потому, что так выглядит, оно должно быть таким в действительности… «Благо именно потому является отношением, в котором требуется безусловное, сформированное независимо от авторитета и мнения других понимание собственного поведения и бытия, что оно предполагает нечто «полезное», но в том безусловном смысле, что по отношению к нему все другое оказывается полезным или вредным. Следовательно, «благо» – это просто нечто полезное, некое обладание, наслаждение которым является не только благотворным для бытия человека, но и составляет саму его подлинную бытийную возможность»[414].
Если встать на эту точку зрения, мы придем к естественному выводу, что Благо есть выражение правильно понятой человеческой природы. Наличие желания действовать для Блага, при отсутствии которого было бы невозможным обретение «этического кодекса». Обретение душой «этического кодекса» и есть путь, предначертанный природой человеку. На этом пути (в конфуцианстве – «Дао») он пребывает в единстве с природой.
Платон в «Федоне» считает необходимым придерживаться норм правильного (как можно лучшего и разумного) поведения: «Если бы смерть была концом всему, она была бы счастливой находкой для дурных людей: скончавшись, они разом избавились бы и от тела, и – вместе с душой – от собственной порочности. Но самом-то деле, раз выяснилось, что Душа бессмертна, для нее нет, видно, иного прибежища и спасения от бедствий, кроме единственного: стать как можно лучше и как можно разумнее»[415].
Платон сетует на то, что человек совершает дурное поведение не ради возможных удовольствий, а из-за незнания того, что такое подлинное благо: «Те, кто ошибается в выборе между удовольствием и страданием, то есть между благом и злом, ошибается по недостатку знания»[416]. Таким образом, знание о неизбежном справедливом воздаянии, предуготовленное каждому в вечности, становится рациональным основанием для правильного нравственного поведения. Знания, по Платону, являются основанием, определяющим этические нормы, отделяющим должное и недолжное.
Мы вновь попытаемся домыслить и дать представление о правильном поведении на основе платоновских идей гармонии, воздержанности, умеренности, мужества и мудрости. Согласно Платону в человеке требуют гармоничного сочетания три составных части: разумное начало будет управлять, аффективное – защищать, вожделеющее – повиноваться[417]. Для философа важно, чтобы человек при своей земной жизни придерживался правильного поведения, умел контролировать себя в удовольствиях, поощрять себя деятельностью, связанной с добродетелью самой по себе, с заботой об общественном благе, нежели приобретением богатства, даже, если оно не расходится с общепринятыми нормами.
Аристотель также рассматривает основы правильного поведения, руководствуясь ими, человек поступает добродетельно, значит, он стремится к своему счастью, достичь которое возможно только в том случае, когда принципом определения добродетели является нахождение меры. Любая добродетель рассматривается как среднее между двумя крайностями, каждая из которых – порок. Мужество – это мера между трусостью и безрассудной отвагой, а мера – не просто середина, а определенное для каждой конкретной добродетели отношение. По словам А.Е. Зимбули, «нравственная мера – не просто «золотая середина» между недостатком и избытком. Она есть узел, в который, оказывается, увязаны нравственные значимые «золотой середины»: цели и средства, формы и содержания, отношения человека к себе и к миру»[418]. Учение Аристотеля о «золотой середине» есть теория нравственной меры и его вклад в «правильное поведение».
Итак, мы упомянули ранее о том, что одним из условий правильного поведения является благоговение перед социумом и семьей, которое вполне гармонизируется с конфуцианским принципом «жень». Уместно подчеркнуть, что в японской культуре сложился тип идентификации человека, как части некоего социального целого (семьи, общины, сословия, предприятия, государства), находящейся внутри многоступенчатой системы взаимных зависимостей. Для аристотелевской философии центральными темами также являются забота о благе государства, полиса, обеспечение такой гармонии общественной жизни, в которой деятельность каждого человека вносила бы вклад в развитие целого. В японской этике цели и интересы группы, частью которой был человек, становились его собственными, поэтому его центральной проблемой являлось исполнение долга. Значение исполнения долга как социокультурного архетипа японской культуры было выражено Р. Бенедикт: «Человек не только должник прошлого, каждый день любой его контакт с другими людьми увеличивает его долг в настоящем. В своих повседневных решениях и поступках он должен руководствоваться этим долгом. И это – отправная точка его поведения»[419].
Понятие «долг» есть ключевое понятие при разъяснении сути буддийской практики: «Человек, занимающийся буддийской практикой, обязан целиком посвятить себя исполнению долга. Вне долга не может быть буддийской практики». Существует ли что-либо важнее долга? Люди, забывшие эту истину, привязаны исключительно к собственному «я», и не обладают искренним сердцем, и в результате даже не подозревают о существовании добродетелей» [420].
Конфуций, почти на полтора столетия раньше великих греков, сосредоточившись на учении о правильном поведении человека, вывел «золотое правило» поведения людей в обществе: «Не делай другим того, чего не желаешь себе». По Конфуцию, идеальный человек – это «благородный муж» (цзюнь-цзы), основными качествами которого являются: человеколюбие; почитание родителей и старших братьев; прямодушие, честность; соблюдение ритуалов и норм этикета.
Ф. Фукуяма подчеркивает: «Фамилизм является сущностью китайского конфуцианства. Это учение способствует невероятному укреплению семейных связей, поскольку для него целью этического воспитания человека является внушение ему высшей ценности семьи по отношению ко всякой другой людской общности»[421]. Он приводит описание антрополога М. Вулфа о такой степени значимости наличия родственников в вопросах доверия-недоверия к любому человеку, что вызывает удивление у нас, не помнящих родства: «человеку, у которого нет множества родственников, нельзя доверять в полной мере, поскольку непонятно, как с ним иметь дело. Если он ведет себя неправильно, то его поведение нельзя обсудить с братом или попросить родителей сделать ему упрек. Если с таким человеком необходимо решить какой-то деликатный вопрос, то нет возможности попросить его дядю подготовить почву. Деньги способны исправить этот дефект не больше, чем вернуть отрезанную руку или ногу. У денег нет ни прошлого, ни будущего, ни обязательств. Зато они есть у родственников»[422].
Исполнение сыновнего долга, которое понималось не только по отношению к родителям, но и к вышестоящему по иерархии и чину, к правителю, рассматривалось и оценивалось в качестве основополагающей стабильности общественного порядка.
В качестве примера обратимся к Х. Нагата, который ссылается на Я. Соко, создателя кодекса «Пути воина» (Бусидо). Кодекс самурайской этики, имевший в качестве своей основы идеи буддизма, конфуцианства и синто, начал формироваться с конца XII века. Его ценности (Бусидо) стали образцом поведения для всех общественных слоев. К числу основных добродетелей самурайской морали принято относить: справедливость (ги); мужество (ю); милосердие или сострадание (дзин) ко всем живым существам; должную благопристойность (рэй), предполагавшую скромность, почтительность по отношению к родителям и вышестоящим; искренность (макото); достоинство (мэйё), подразумевающее сохранение чести и доброго имени даже ценой собственной жизни; преданность или верность (тюги).
Учение Я. Соко о «пути благородного мужа» исходило из положения, что «дело благородного мужа – контролировать себя. Обретя господина – быть верным ему до конца, как предписано законами; в отношениях с товарищами – быть полностью искренним; быть сдержанным в личной жизни и следовать только долгу. Поэтому ты сам должен общаться с людьми так, чтобы не нарушать принципов отношений между отцом и сыном, старшим и младшим братьями, мужем и женой. Благородный муж, не снисходя до дел, которыми занимаются крестьяне, торговцы и ремесленники, посвящает себя исключительно этому Пути и сразу же наказывает тех из трех, кто нарушает правила человеческого поведения, тем самым он поддерживает справедливость правил поведения в Поднебесной, установленных небом»[423]. То есть правильное поведение, соответствующее велению Неба, внедрялось жесткими самурайскими методами.
В учениях японских мыслителей-моралистов различные аспекты исполнения долга интерпретировались, естественно, через эти ключевые категории конфуцианской этики как человеколюбие, сыновняя почтительность, верность, в соединении с буддийской доктриной «воздаяние за добро».
Принцип «воздаяния за добро» в японской культуре имеет буддийские корни и восходит к двум махаянистским сутрам – «Сёбонэндзёкё» (Сутра об осознавании истинной Дхармы) и «Синдзикан-кё» (Сутра о созерцании сознания-основы). В них говорится о том, что все живые существа получают четыре вида благодеяний (сион), которые они должны возвращать миру. Первая из сутр относит к четырем видам благодеяний – благодеяния отца, матери, будды Нёрай и учителя буддийского Закона, а вторая – благодеяния отца и матери, благодеяния всех живых существ, благодеяния правителя страны, благодеяния трех сокровищ (Будды, буддийского Закона, монашества). В японской философии конфуцианский термин «сыновняя почтительность» начал использоваться в трактовке идеи благодарности по отношению к родителям и в качестве основы остальных трех видов долга, в том числе и долга перед правителем. Чувство благодарности детей по отношению к родителям за жизнь и воспитание стало рассматриваться как тождественное чувству обязанности по отношению к своему господину, императору, власти вообще.
Эталонами поведения для любого члена общества, к какому бы сословию он ни принадлежал, выступали образы совершенномудрого и «благородного мужа».
Так, Исида, являясь родоначальником направления японской философской мысли Сэкинмон сингаку – «Учение о сердце, созданное Исидой», оказавшего влияние на формирование дисциплинированной и активной личности, занимался, как все его коллеги-мыслители, разрешением моральных проблем. Его усилия были направлены на то, чтобы побудить человека познать самого себя, через себя весь остальной мир, а самое главное – действовать, не входя с миром в конфликт, не нарушая его порядка. Он учил своих слушателей постигать собственное «сердце», причем за ним признавалась имманентность миру, за ним подразумевалось единое и целостное с миром. Человека, постигшего собственное «сердце» и действующего в унисон с миром, Исида называет в соответствии с конфуцианскими понятиями совершенномудрым. В его учении совершенномудрый – это обычный человек, независимо от его общественного положения, достигший просветления и следующий своей природе. Он не совершает никаких выдающихся дел, а ведет тот образ жизни, который соответствует его положению.
Помимо морального совершенства – обладания пятью конфуцианским добродетелями (милосердием, справедливостью, благопристойностью, мудростью и верностью) – совершенномудрый имеет и другие особенности: его сердце свободно от сознания индивидуальности; знание его есть непосредственное созерцание сущности, не искаженное сознанием человеческого «я». Он действует и бездействует одновременно, находясь в полной гармонии с миром; его суть и суть Будды одна и та же; его просветленное сердце воссоединяется с сердцем Неба и Земли. Просветленное состояние достигается через конкретную деятельность, успешные действия, поскольку человек осуществляет их как органическая часть мира, устроенного по канонам святости и идеальности. Под «действием» Исида понимал исполнение долга, исполнение каждым человеком своих обязанностей с усердием и искренностью. В его учении главным условием осуществления человеком своего предназначения является соблюдение принципа «тисоку амбун» («довольство малым», «нетребовательность», «удовлетворенность своим положением»). В соответствии с этим принципом поведение человека признавалось просветленным, которое сопровождалось ощущением внутреннего баланса, тем самым реализовывалось «Небесное предназначение» этого человека. Таким образом, человек придерживался максимально эффективного поведения в реальной жизни и полного воплощения программы, предначертанной «Небом» – не только частью природы, а высшей духовной силой, по велению которой все совершается в природе, обществе и человеке.
Нравственное поведение рассматривалось японскими мыслителями как необходимое условие жизненного успеха[424]. Начиная с С. Судзуки, появился особый взгляд на то, что при условии занятости человека своим делом, а это ему помогает достичь состояния Будды, позволит ему обрести духовное здоровье, достичь полноты своего бытия, свободы. Согласно С. Судзуки, в качестве буддийской практики может выступать лишь полная отдача собственному делу, когда человек руководствуется только исполнением своего долга и не имеет никаких иных мотиваций. Для характеристики такого состояния С. Судзуки использовал понятие «макото» (искренность). «Знайте, искренность заключается в чувстве стыда в своем сердце, не перед другими, а перед самим собой…Следовать по Пути верности и сыновней почтительности с искренностью не просто. Случается, что даже те, кто врывается в ряды врага и встречает смерть, действует ради славы и выгоды. Таким образом, все, что они делают, есть погоня за славой, желание получить земельный надел или недовольство размерами своего жалованья…Если, обладая благой верой, вы действуете с абсолютной верностью, то как вы можете думать о самом себе? Если вы, зная свой долг, мобилизуете энергию мужества, то зачем вам конкурировать с другими людьми? Те, кто отдает свою жизнь ради отечества, встречаются редко»[425]. Жертвовать своей жизнью, которая является великой ценностью, во имя долга – это исключительно человеческий образ действия.
Еще раз подчеркнем, как концентрацию понятия долг, которую считают заповедью заповедей в японской морали – это искренность. «Одним этим словом может быть выражена основа всех моральных учений»[426]. Основным назначением «искренности» является настойчивое следование по пути, указанном японским кодексом и японским духом. «Макото» используется, речь идет в данном случае о другой его стороне, для положительной оценки человека, который не является своекорыстным, этот термин употребляется тогда, когда говорят о человеке, который вызывает восхищение тем, что он свободен от страстей, что, в свою очередь, отражает понятия о самодисциплине. Японец, обладающий искренностью, никогда не позволит себе оскорбить человека, которого не собирается спровоцировать на агрессию. Также такой человек свободен от психологических противоречий. При соблюдении кодекса человек может действовать бесконфликтно и эффективно[427].
Японцы говорят, что они не нуждаются во всеобщих моральных заповедях. На Западе признаком силы является способность восстать против традиций и добиться результата, несмотря на препятствия. У японцев сильными считаются те, кто не принимает во внимание собственное счастье и выполняет долг. Сила характера, по-японски, состоит в подчинении правилам, а не бунту.
Учение о единой сущности преданности господину и сыновней почтительности было тесно связано с идеей благодарности, этот принцип выражал чувство обязанности по отношению к людям, сделавшим добро, и необходимость достойно оплатить за оказанные благодеяния.
По словам Судзуки, обладая телом, подверженным смерти, люди часто забывают о смерти и ведут себя так, будто перед ними десять тысяч лет. В результате они, не задумываясь о проходящем времени, предаются алчности, гневу, заблуждениям и попирают вассальную преданность и сыновнюю почтительность, игнорируют дело своего дома, находя удовольствие в бесполезных вещах[428].
В этическом учении С. Судзуки лежит буддийское разделение благих дел на две части – одни из них предполагают привязанности, а другие, содержат в себе чистое, абсолютное добро, которое стоит над всякими привязанностями. Человек, который рассматривает собственность как нечто постоянное и привязан к ней, делая ее своей конечной целью, на самом деле творит добро, обремененное этой привязанностью. Но если человек свободен от собственных желаний и предан собственному делу ради благосостояния других людей, осознавая, что все вещи отличаются непостоянством, его действия есть чистое добро, которое является условием для достижения нирваны[429]. Здесь мы находим другой смысл, вложенный в восточное понимание Добра, хотя оно не менее предельно, чем западное, но оно наполнено практико-этической направленностью, устремленной на благо людей.
У философа есть рассуждения о сочувствии ко всем окружающим: «Всегда принимайте в расчет печали других людей. Хотя все вещи и существуют отдельно одна от другой, изначальное сердце едино. Что мы называем «я» и «другой»? Для человека, пребывающего в неведении, индивидуальные «я» существуют обособленно друг от друга. Для человека, достигшего понимания, не существует различий между «я» и «другими». Поэтому человек, обладающий истиной, ставит на первое место сочувствие и его страдание глубоко»[430]. В этом мы находим созвучие со взглядами Гегеля на «я» и «мы»[431].
Как отмечает Г. Омс, «внутри человеческого «я» не существует автономного центра, более того, становление индивида происходит благодаря нескольким центрам, находящимся вне его. Его жизненная задача, таким образом, состоит в том, чтобы отплачивать за эти благодеяния, устраняя различия между собой и другими»[432].
Судзуки проповедовал: «самое главное – это не что иное, как искоренение мыслей о себе самом. Источник страдания – это одна-единственная мысль: «я», «я»[433].
Практическая этика Исиды была разработана в учении о «пути торговца» (сёниндо) по аналогии с «путем самурая» (бусидо). Категория «путь» (дао) является одной из фундаментальных категорий в восточной философии. В раннем конфуцианстве понятие «путь» означало совокупность норм поведения и принципов мудрого управления государством. В даосской традиции понятие дао носило натурфилософский, онтологический характер и означало одновременно универсальный закон и субстанцию всего сущего[434].
В философии сунского неоконфуцианства произошло соединение этико-социального и космолого-онтологического смыслов дао. Это привело к сближению понятия «путь» с понятиями «природа», «принцип». «Путь» стал рассматриваться как основа этики и мудрого правления, в этом смысле он трактовался как «путь пяти добродетелей».
Исида рассматривает тему собственности и богатства с этической точки зрения. Деньги и успех имеют ценность лишь тогда, когда они равномерно распределяются в мире и улучшают качество жизни. Он считал, что все имущество и богатство в мире принадлежит Поднебесной, а не каким-то конкретным людям. Они служат общему процветанию. Подчеркнем еще раз, как Исида понимал данный процесс: накоплением богатства занимаются отдельные люди, но его истинными владельцами являются все жители Поднебесной. «Отношение к деньгам и богатству Исиды можно сформулировать следующим образом:
1) они, хоть и принадлежат отдельным людям, в то же время являются достоянием всего общества и должны служить в первую очередь ему;
2) нельзя скрывать деньги и имущество, изымать их из обращения. Обращение денежных средств – наиболее важное их назначение. Оно подчиняется высшим политическим целям;
3) рост благосостояния – признак усердия и трудолюбия, а, следовательно, и добросовестного исполнения своего долга»[435].
Учение о бережливости является основой философии и этики Исиды. Расточительное отношение к природным богатствам рассматривалось в Японии как антисоциальное поведение, а бережливое отношение приобретало моральную значимость. В ценностной иерархии бережливость стоит над всеми добродетелями конфуцианского «пути».
Среди этических наставлений еще одного представителя японской философии Ниномии есть такое: «при передаче режущего предмета принято направлять его острием в свою сторону, а рукояткой в сторону другого человека. В этом коренится истинный смысл нравственности. Если этот смысл будет распространен повсеместно, то возможно достижение совершенной морали. Если все люди будут поступать таким образом, то Поднебесная будет пребывать в спокойствии»[436].
Дом, семью он сравнивал с лодкой. Тогда хозяин дома является капитаном, члены дома – экипажем, а мир – большим морем. Если это так, то среди прочих дел в большом море главным является забота о том, чтобы не утонуть; капитан в первую очередь и все плывущие вместе люди вынуждены сплоченно и единодушно сохранять лодку. В сохранении этой домашней лодки есть два основных момента – держать рулевое весло и следить, чтобы в ее дне не образовалось пробоин[437].
В этой лодке все подчинены командам капитана, как в семье все должно быть по правилам и «самым важным является милость родителей; будем жить так, чтобы отблагодарить их за это. Девушки после замужества должны почитать свекровь, и если свекровь не любит невестку, даже ненавидит ее, то девушка не должна сердиться и отвечать ненавистью; в таких случаях нужно изо всех сил стараться угодить свекрови…
В отношении к мужу нужно быть вежливой и предупредительной…Монарх обладает высочайшим авторитетом и властью…все должны подчиняться его приказам…»[438]. Мы привели отрывок из учебника морали. Такие учебники, как «Начальный курс морали» Носэ Сакаэ (1892 г.), стали использоваться в каждой школе с 1904 года, они ярко выражают принципы верноподданнических чувств и сыновней почтительности, основанные на конституции Мэйдзи и императорском эдикте о просвещении.
Мы полагаем, что не будет выпадать из контекста темы параграфа, если мы обратимся еще к одному моралисту – Сибусава. Он был одним из тех, кто стоял у истоков создания современной японской финансо-
во-экономической системы. Он подчеркивает жизненную необходимость морали как регулятора всего спектра социально-экономических отношений, и говорит о недостаточности для нормального функционирования общества одних только правовых норм: «При зрелом размышлении я пришел к выводу, что решение социальных проблем и проблем труда невозможно лишь на основе права. К примеру, если в семье, где существуют соответствующие права и обязанности родителей и детей, старших и младших братьев, ее члены уповают только на закон, нравы их становятся плохими, они отдаляются друг от друга, спорят по любому поводу и практически перестают стремиться к миру и согласию. Я думаю, что отношения между богатыми и бедными аналогичны»[439].
Один из японских моралистов Ниномия напрямую связывает успех любого начинания с уровнем морального сознания задействованных в нем людей. У Сибусавы Эйити эти идеи были трансформированы в тезис неразрывного единства этики и экономики. Этика играла роль регулятора общественных отношений. Система взаимных нравственных обязательств и связи родственно-семейного типа выступают в качестве гаранта доверия в процессе любой деятельности. В основе японской этики лежат идеи неразрывного единства человека и его окружения, иллюзорности границ, разделяющих человеческое «я» и противостоящее ему «не-я».
Умение действовать, не вступая в противоречие с окружающим миром, рассматривается как залог успеха. Сибусава обрисовывает ситуацию в обществе, связанную с проникновением, распространением и влиянием западных ценностей, которые обеспокоят и заставляют его обратиться к этической проблеме: «для современных молодых людей самое необходимое – это воспитание личности. До реставрации Мэйдзи нравственное воспитание в обществе было довольно широко распространено. Однако с импортом западной культуры в духовной сфере произошли значительные перемены, и сегодняшнее положение дел можно охарактеризовать как наступление эпохи практически полного нравственного хаоса»[440]. Далее он признает, что новые времена требуют новых правил, «поскольку конфуцианское было отвергнуто как устаревшее, современное молодое поколение не усвоило его в достаточной мере, однако это не привело к тому, что христианские нравственные нормы стали общепринятыми, новая этика эпохи Мэйдзи также не была создана. Поэтому в условиях полного смятения в духовной сфере народ фактически страдает оттого, что не знает, на что ему равняться»[441]. В качестве достойного выхода из критического состояния он считает, что нравственное сознание следует вывести на уровень, соответствующий нынешнему уровню материального прогресса, и связать с национальной культурной традицией: «Однако, если подходя к этому односторонне, ориентироваться только на зарубежные нравы и обычаи, то, скорее всего, попытки непосредственно применять их в нашей стране окажутся безуспешными. Поскольку страны отличаются друг от друга, моральное сознание людей также естественным образом отличается. Поэтому необходимо стремиться к формированию морального сознания, адекватного данному обществу, данной стране, детально учитывая формирующие его нравы и обычаи, изучая традиции начального образования, восходящего к предкам»[442]. Он в качестве самой действенной этической книги считает «Лунь юй», центральной темой которой является обсуждение проблемы практической составляющей «человеколюбия»: «Что же такое человеколюбие? Если ты сам стремишься к становлению, то помогай и становлению других людей. Если ты хочешь, чтобы твои дела шли хорошо, то способствуй успехам других». Еще одна сторона добродетели человеколюбия привлекла Сибусава: «не бывает ученого мужабез широты ума и твердости духа, ибо ноша его тяжела, а Путь долог. Его ноша – распространение человеколюбия – разве она не тяжела? Только со смертью кончается его путь – разве он не далек»?
По мнению Сибусава, нравственность должна присутствовать постоянно во всех сферах жизни, и поэтому в любом состязании необходимо стремиться взять верх над другими людьми путем добросовестной конкуренции, а именно – «вставая утром раньше других, строя удачные планы и благодаря своей находчивости и усердию»[443]. Он предлагает воздерживаться от бесполезных трат чего бы то ни было, бесплодного времяпровождения, бессмысленного использования людей. В своей книге «Лунь юй и счеты» Сибусава говорит, что «современный прогресс привел к тому, что из западных стран к нам приходят новые учения. Однако, с нашей точки зрения, то, что сейчас называют новым, на самом деле является старым и ничем не отличается от уже сказанного на Востоке несколько тысяч лет назад. Много встречается таких вещей, которые представляют собой лишь искусное жонглирование словами. Изучение приходящих из западных стран прогрессивных новшеств необходимо, однако не следует забывать, что и среди старого, издавна существующего на Востоке, есть такие вещи, от которых нельзя отказываться»[444].
Высшей ценностью и мобилизующим мотивом стал конфуцианский идеал социальной гармонии, воплощенный в эпоху Токугава в образе «богатой страны и умиротворенного народа». Образ этот основывается на идее порядка и процветания каждого отдельного дома, а также на идее «кокутай», выражающей национальное единство.
Доминирующая роль долга, стыда, сыновней почтительности в японской этике во многом определила такую особенность, как личная ответственность субъекта перед группой, к которой он принадлежит и с которой он себя отождествляет, перед обществом, государством, перед своим ближним и дальним окружением. Отличительной чертой японской этики является акцентирование важности малого, ответственности каждого за любую, даже незначительную работу. Ценность труда отдельного маленького человека повышается в связи с налагаемой на него ответственностью. Ответственность за благополучие своего государства возлагается не только на рядового гражданина, но и на представителей элиты.
Все вышеизложенное – один из примеров понимания, что есть «правильное поведение», если они кому-то покажутся слишком моралистскими, то можно возразить, этическая философия Японии с ее кажущимися идеальными принципами, оказывалась в прошлом и показывает себя в настоящем весьма продуктивной в предвидениях и обосновании практических правил, без которых невозможно представить эту культуру.
С другой стороны, неизбежно происходят изменения, взаимовлияние, взаимообогащение культур, о них Китамура Тококу говорил: «Великий поток устремлен с Востока на Запад и с Запада на Восток…Все высшие проявления человеческой мысли сообщаются между собой»[445].