
Научная электронная библиотека
Монографии, изданные в издательстве Российской Академии Естествознания
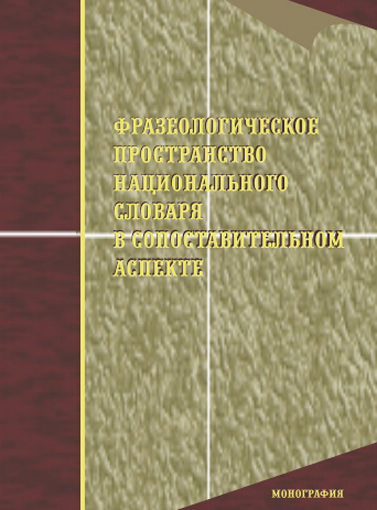
ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО НАЦИОНАЛЬНОГО СЛОВАРЯ В СОПОСТАВИТЕЛЬНОМ АСПЕКТЕ
Федуленкова Т Н, Адамия З К, Чабашвили М ,
Глава IX. ЧЕЛОВЕК СРЕДСТВАМИ КОСВЕННОЙ НОМИНАЦИИ: УНИВЕРСАЛИИ И УНИКАЛИИ В СЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКАХ (сопоставительный анализ на материале русского и чешского)
Человек является не только субъектом, но и главным объектом номинации, как первичной, так и вторичной, в том числе фразеологической. Во фразеологии фиксируется в основном то, что подлежит оценке, ввиду ярко выраженного аксиологического характера фразеологической номинации. В процессе самостоятельного развития славянских языков в сфере агентивной лексики появилось много новообразований, отмеченных национальной спецификой. При этом славянские языки демонстрируют как общее, универсальное (что связано с их близким родством, общими заимствованиями, заимствованием друг у друга), так и специфическое, уникальное (что обусловлено этноспецификой образного восприятия мира).
Универсальность косвенно-производной номинации связана с тем, что большинство семантических новообразований подчиняется действию однотипных когнитивных моделей, основанных на действии идентичных культурных кодов. Универсальными в разных языках является целый ряд базовых метафор, или культурных кодов: соматический, артефактный, фитонимический (растительный), зоонимический (зооморфный), речевой, социальный, кулинарный, технический и др. в действии единообразных моделей семантического переноса выражается универсальность мышления человека. Вместе с тем их различное образное наполнение свидетельствует о специфике видения мира представителями того или иного этноса, обусловленной их национально-культурными особенностями. Национальное своеобразие зачастую заключает в себе образ, реализующий универсальную семантическую модель.
Семантическая модель, имеющая ассоциативный характер и лежащая в основе косвенно-производной номинации, дает возможность увидеть субъективные мотивы, послужившие основанием переноса номинанта. В то же время субъективные мотивы являются отражением более общих, объективных закономерностей ментальной деятельности человека. Так неразрывно переплетается субъективное и объективное в номинативной деятельности человека.
Взгляд на родной язык через призму другого, родственного или неродственного языка, открывает большие возможности не только для выявления специфики своего языка, но и установления единообразия, сходства, типологических черт, присущих языкам. «Увидеть в конкретных языковых фактах общие закономерности устройства и развития языков, в частностях найти отсвет глобальных и поэтому единых сил, действующих в языках, – в этом состоит задача исследователя, занимающегося билингвальным описанием языка» [Манакин 2004: 65].
Универсальными оказываются логические механизмы языковой объективации. Подобный универсализм вместе с тем не противоречит этнолингвистическому своеобразию, т.к. реализация единых моделей, или кодов, нередко осуществляется с помощью различных образов, связанных с особенностями той или иной культуры, ведь «сознание человека всегда этнически обусловлено». Этнокультурное сознание – результат отражения и восприятия образа мира в соответствии с особой сеткой ценностно-смысловых координат той или иной национальной культуры [Алефиренко 2009: 112]. Этнокультурной значимостью отмечены, прежде всего, языковые метафоры, идиомы, паремии, точнее о б р а з ы, на которых построены эти языковые структуры, т.к. именно языковые образы демонстрируют наиболее важные для данной этнокультуры объекты – предметы, факты, события.
Лучше всего универсальность человеческого сознания и этноспецифику образного восприятия мира демонстрируют факты косвенно-производной номинации, к которым относятся фразеологические единицы. Ведь именно фразеологизмы «ассоциируются с культурно-национальными эталонами, стереотипами, мифологемами и т.п. и … в употреблении в речи воспроизводят характерный для той или иной лингвокультурной общности менталитет» [Телия 1996: 233]. Сравнение фразеологических единиц в разных языках может проводиться как в когнитивном аспекте (для выражения одного и того же понятия, признака, качества и т.д.), так и в лингвокультурологическом фокусе, в центре внимания которого оказывается тот или иной культурный код.
В плане сопоставительного анализа фразеологического материала единой когнитивной сферы с целью демонстрации общности кодовых моделей и образной специфики в славянских языках мы выбрали фразеологический материал русского и чешского языков, номинирующий внешние (молодой – старый) и внутренние (умный – глупый) дихотомии.
Неопытность, несамостоятельность детей, молодых людей связана с образом существа, сосущего молоко, питающегося от матери. На этом образе основаны такие оценочные наименования с уничижительной коннотацией, как рус. (у него) молоко на губах не обсохло, чеш. s mlékem na bradĕ (букв. с молоком на подбородке). В основе данных однотипных номинаций лежит антропная метафора, уподобляющая неопытного, несамостоятельного из-за своего незначительного возраста человека грудному ребенку, который питается материнским молоком.
Для наименования молодых людей актуален растительный код, при помощи которого экспрессивно выражается стройность, красота, цветущий вид молодых: напр. рус. (как) березка «молодая стройная женщина», девушка-ромашка – «наивная, романтичная девушка», (как) дубок о крепком парне, молодом человеке – символизируют собой молодость, красоту, силу. Здоровье молодого человека в чешской культурной традиции подчеркивается с помощью сравнения с буком, деревом, символизирующим силу, здоровье, мощь: kluk/ chlapec zdravý jako buk (букв. здоровый как бук); roste jako buk (букв. растет как бук). С пихтой, обозначаемой в чешском языке лексемой jedle (рус. ель), ассоциируется стройность и высокий рост молодых мужчин: hoch jako jedle (букв. статный парень), urostlý jako jedle (букв. рослый как пихта).
Красота, привлекательность девушки ассоциируется у русских с чем-то сладким и легким, что выражено словом (как) конфетка. Близкий этому образ и в основе компаратива divče/ kluk jako cumel (букв. девушка/ парень как карамелька, леденец), характеризующего симпатичную девушку или молодого человека.
Такой когнитивный признак, как маленький рост детей, передается с помощью специфических русских фразем с отрицательной коннотацией от горшка два вершка, (кто) под стол пешком ходит, а также логоэпистемой мужичок с ноготок. Молодой возраст не получил обширной разработки во фразеологии обоих языков. Это объясняется тем, что фразеологическая номинация служит не только номинированию, но и оцениванию чаще всего негативных явлений, отклонений от нормы, молодость же является нормой, положительным явлением, поэтому это состояние не получило значительного отражения во фразеологии, хотя признак «маленький» широко передается в обоих языках фактами вторичной номинации в виде зооморфных метафор, ср. рус. козявка, букашка, клоп и чеш. brouček (жучок, букашка), cvrček (сверчок), červíček (червячок) и т.п.
Старость, как правило, оценивается отрицательно, негативное отношение к ней связывается с приближением конца жизни, физической немощью, утратой социальной значимости. Поэтому этот возраст шире представлен во фразеологических системах сравниваемых языков. По отношению к старому человеку нередко употребляются фраземы с компонентом старый: рус. старый дурак, старая карга, старая хрычовка, чеш. má staré kosti букв. (у него/ у нее) старые кости.
В качестве переносных названий старых людей в сравниваемых языках используются образованные по одной модели рус. старая перечница, старая кастрюля и чеш. stará škatule (старая шкатулка), представляющие собой переосмысленные названия старых емкостей, закрытых вместилищ. Вместе с тем встречаются и образные спецификации: рус. старая калоша, старый лапоть (реализующие обувную метафору), старый пень, старая кочерга (подчеркивающие признаки изношенности, трухлявости и согнутости старого человека), чеш. (jak) škeble «как ракушка-беззубка» (указывающие на признак отсутствия зубов у стариков), staré trdlo «старый дурак» (актуализирующие глупость, передающуюся с помощью деревянной метафоры, т.к. восходит к trdlo «деревянный инструмент для растирания мака»).
О старом человеке русские образно и шутливо говорят: из него песок сыплется. Выражение является калькой с англ. the sands are running out, которое, скорее всего, связано с другими языковыми обозначениями старения как биологического процесса (рассыпается, развинтился, развалился, расклеился) [Бирих и др. 2005: 528]. На основе этого оборота образовано сочетание старая песочница, так же как глагол развалился послужил основой агентива старая развалина. По отношению к старому, немощному, ни на что не годному человеку употребительно и выражение мышей не ловит, а также вышел в тираж, т.е. «стал непригоден к чему-л. по старости» [Бирих и др. 2009: 193].
Для образного наименования старых людей в сравниваемых языках типичным является фитонимический код, основанный на сравнении пожилого человека со старой, высохшей травой: рус. божий одуванчик, чеш. jako věchýtek «как пучок соломы, как соломинка». Еще бодрящийся старичок сравнивается в разных лингвокультурах с перцем: рус. (старый) перец, старый хрен – чеш. paprika. Задействована во вторичных названиях пожилых людей и зоонимическая метафора: ср. рус. старая кляча, старая лошадь, старая корова, старый козел, чеш. starý kozel, stará koza, престарелого ловеласа в обоих культурах сравнивают с котом облезлым – чеш. opelichaný kocour.
Большой массив фразеологизмов, метафорически объективирующих аксиологическую дихотомию «глупый» – «умный», отмечается во всех языках, включая исследуемые нами, ввиду того, что именно ум является важнейшей характеристикой человека как homo sapiens, поэтому отсутствие его является существенным недостатком, подлежащим осуждению и высмеиванию с помощью средств косвенной номинации. Рассмотрим основные культурные коды и их образную реализацию, помогающие метафорической репрезентации образа умного и неумного человека в русском и чешском языках.
Во фразеологизмах, номинирующих неумного человека, закреплен перенос «покрытие, верхняя часть» → «голова», причем для характеристики глупца используется образ сдвинувшейся, пришедшей в движении крыши, башни и т.п.: рус. крыша, башня в выражениях башню снесло, крыша поехала (о человеке, совершающем глупые, безрассудные поступки), чеш. věž во фраземе straší mu ve věži (букв. у него нечисто в башне). Образ «поехавшей крыши» присутствует в следующих вариативных номинациях, явно преобладающих в русском языке: крыша едет, поехала, съехала, течет, ползет, потекла, крышу оторвало; башню снесло, сносит, сорвало; безбашенный; чердак заклинило;
чердак поехал, потек и т.п.
Мотивационной доминантой поля «глупость» следует считать идею антинормы. Данная идея конкретизируется сквозными мотивами беспорядка, смещения, бездеятельности, недостатка, прерывания процесса и др. К примеру, сквозной мотив смещения реализуется с помощью следующих мотивационных признаков (частных мотивов): утрата опоры (сбить с грунту); кривизна, наклон (криво повязан, (прост.) мозги набекрень); нарушение траектории движения (сойти с ума, умом крякнуться). Частный случай реализации этого мотива – образ поломки механизма, нарушения порядка в нем: шарики за ролики зашли, сдвиг по фазе, клепок недостает, шариков/ винтиков не хватает, съехать/ сойти с катушек, съехать с рельс, чеш. haraší mu v kouli (букв. у него звенит/ гремит в шаре). Типичным для актуализации образа дурака является и мотив нарушения целостности предмета, ассоциирующегося с головой, напр. в чеш. ruplo (luplo/ prasklo) mu v kouli (v bednĕ) (у него треснуло/ лопнуло в шаре/ ящике). Подобная деформация может быть связана с ударом по голове, что отражают такие вторичные номинации, возникшие на стыке метафор, как рус. пыльным мешком ударенный – чеш. pytlem praštĕný «мешком ударенный», а также praštĕný pavlačí «ударенный
галереей, балкой».
Логическое развитие этих мотивационных линий – появление мотива движения вообще, путешествия без дороги, причем движение рассматривается как аномалия, т.к. нормой в данном случае является покой. Этот мотив реализуется в прост. умом тронуться, а также чеш. mluvit z cesty «спятить» (букв. «говорить с дороги»). Если даже дом или его части не пришли в движение, то нарушается нормальное состояние дома, заведенный порядок.
Картину разрухи и беспорядка при языковой разработке образа дурака дополняет еще одна важная тема: тема отсутствия в доме полной семьи (не все дома, чеш. nemít všech pĕt pohromadĕ «не иметь все пять вместе»), отсутствия главного человека в государстве (рус. без царя в голове), а также присутствия в нем нечистой силы (напр., в чеш. šplouchá mu na maják («у него нечисто в башне»). Мотив смещения в данном случае дополняется мотивом пустоты: «концептуальный дом дурака», который соотносится в представлении носителей русского языка с головой как «вместилищем» ума, оказывается нежилым, пустующим помещением [Березович 2004: 379-380].
В рамках растительного кода можно рассматривать ландшафтную метафору, задействующую образ темного, непроходимого леса, отмечаемую в русском языке: темный лес, как в темном лесу, тундра (непроходимая) (о глупом человеке).
Внутри растительного кода зародилась «деревянная» метафора, напр. рус. дубовая голова, еловая голова, голова садовая, здравствуй, дерево! и др. Для актуализации образа дурака типичным для всех славянских языков является сравнение человека с дубом. Дуб не только символ крепости, мощи в славянской языковой картине мира, но и символ тупости, глупости из-за гулкого, тупого звука при ударе о древесину дуба, неподвижности дерева. Отмечается преобладание пейоративной коннотации у переносных употреблений слова дуб при фразообразовании, напр., рус. дуб дубом «о тупом человеке», как дуб «о крепком, но упрямом и тупоголовом человеке», дубиной называют тупого человека; чеш. má dubovou hlavu «твердолобый», dubová palice/ hlava «дубовая голова, башка»; hloupý jako dub (рус. тупой как пень, как валенок); jako když mluvíš do dubu (рус. говоришь как со стенкой, как об стенку горох). В чешском языке даже более распространены устойчивые выражения, построенные на образе дуба. Негативную оценочность имеют фраземы mlčet jako dub (рус. молчать как рыба), stát jako dub (рус. стоять как столб, как истукан), chlap jako dub (рус. парень как бык) о здоровом, но тупом молодом человеке.
Другое направление развития древесной метафоры – подключение образов деревьев с легкой древесиной, задействующих признак легковесности, что характерно для русского языка: рус. пробковое дерево, тупой как пробка, бамбук.
Полые изделия из дерева стали актуальными в чешской лингвокультуре для наименования глупца, ср. чеш. hloupý jako necky «глупый как корыто». Метафорическое переосмысление полых, имеющих пустую внутренность предметов для обозначения неумного человека особенно часто свойственно чешскому языковому сознанию: чеш. prazdná nádoba «пустой сосуд» (о дураке), prázdná palice (букв. пустой молот, о тупом, упрямом человеке); сравни также вторичные номинации trumdera, trulant «болван, балбес» из «труба» (музыкальный инструмент, имеющий полую внутренность и издающий глухой звук); trouba «олух, болван» из trouba «труба». Специфически чешской является ассоциация глупого человека с кишкой во фраземе učinĕné střevo.
Использование дерева в качестве строительного материала дает взаимодействие растительной метафоры со строительной. Мотив обработки дерева также связан с представлениям о культуре и образованности человека, ср. рус. полено неструганое, чурка с глазами, чеш. blbý jako poleno «тупой как полено». Отсутствие ума у человека подчеркивается и с помощью замены его на мусор, отходы от производства, чаще всего древесные: рус. у него в голове опилки, солома; голова мякиной набита; чеш. má v hlavĕ piliny/ drtiny/ otruby «у него голове опилки/ стружки/ отруби».
Со стороны речи глупца может характеризовать, с одной стороны, неспособность хорошо говорить, косноязычие, отсутствие вразумительных высказываний, что выражают сравнения с деревом, пнем в обоих языках, а также рус. (прост.) ни бэ, ни мэ, ни кукареку и чеш. hloupý až bučí (букв. «тупой до мычания»). С другой стороны, дурака может отличать и пустая болтовня, ненужное многословие, что отражают номинации: рус. бесструнная балалайка, молоть из пустого в порожнее и чеш. mlít voloviny (от vůl «вол») «молоть глупости».
Типичным для номинации дурака является сравнение с обувью. Использование «обувной» метафоры для обозначения глупости человека вполне естественно: в семантике слов, обозначающих виды
обуви, имплицитно присутствует не только сема округлости, но и сема низа, сниженности, приземленности, которая дает негативные коннотации, т.к. обувь наиболее удалена от головы и является своеобразным антиподом последней, напр., рус. тупой как валенок и чеш. hloupý jako bota «глупый как ботинок».
Поскольку дихотомия «умный» – «глупый» метафорически проецируется на оппозицию «острый» – «тупой», то для наименования глупого человека используются предметы, имеющие тупые, закругленные края (ср. и выражение круглый дурак): напр., чеш. hloupý jako patník «тупой как (каменная) тумба».
Отдельные коды способны притягиваться друг к другу, пересекаться, обмениваться номинативным материалом – и это нередко имеет этнокультурную обусловленность. Взаимодействие «обувной» и «социальной» метафор проявляется, например, в следующих фраземах: рус. как сибирский валенок, лапоть, лаптем щи хлебает, jako farařové boty «как ботинки приходского священника», «обувной» и зоонимической метафор в чеш. hloupý jako hovĕzí boty «как бычьи ботинки». В качестве наращения к «обувной» метафоре задействуются и названия старой,
поношенной обуви: напр., рус. тупой как старый башмак, чеш. hloupý jako stare boty «глупый как старые ботинки». Таким образом, модель «обувь» – «глупый человек» обнаруживает взаимодействие и с моделью «хлам, мусор» – «дурак». «Мусорная» метафора подключается к «обувной» не только в целях усиления экспрессии; притяжение метафор обусловлено и общим прагматизмом традиционной картины мира, для которой плохое может концептуализироваться как негодное в хозяйстве [Березович 2004: 374].
Социальный код представлен номинациями представителей тех слоев, которые обладают в сознании номинатора низким социальным статусом, – провинциалов, жителей деревни, периферии, сказочных образов крестьян-простофиль: напр., рус. Маша с Уралмаша, как умная Маша, сибирский валенок, тульский пряник, Иванушка-дурачок,
чеш. hloupý Honza.
Широкую сеть вторичных номинаций традиционно представляют названия животных – зоонимы. Издавна человеческие качества сближались с теми или иными особенностями, приписываемыми животным, в частности, глупость ассоциируется в русском и чешском языковом сознании с такими животными, как осел, баран, (рабочая) лошадь, курица (чеш. slepice), вообще птица: ср. рус. глуп как осел, как баран, как сивый мерин, баранья башка, куриные мозги; чеш. hloupý jako osel, moula, mezek (осел, лошак), kůň «лошадь», beran «баран», hlava skopová «баранья башка», jít jako ovce za beranem «идти как овца за бараном» (рус. как стадо баранов), mít slepičí mozek «иметь куриные мозги», mít ptačí mozeček «птичий мозг». Вместе с тем есть и спецификации в образной реализации зоонимического кода для выражения представления о глупом человеке. В русской лингвокультуре этот образ получает эталонное сравнение также с уткой: доходит как до утки, (грубо-прост., презр.) вумная как вутка, а в чешской – с образами гусыни (чеш. hloupá husa «дура»), молодого бычка – чеш. bulík переносно значит «болван, дурак», что получило дальнейшее развитие во фраземе vĕšet bulíky na nos (букв. вешать бычки на нос, ср. с рус. вешать лапшу на уши или водить за нос «морочить голову»).
«Неумным» животным, с которым сравнивается глупый человек, считается в русской и чешской культурах также коза. Средствами фразеологической номинации тупой, непонимающий взгляд в русском языке выражается с помощью фраземы смотреть как в афишу коза; с глупостью, бестолковостью ассоциируется коза и в чешском языковом сознании: mluví jako koza před smrtí «говорит как коза перед смертью»; je (s kym) řeč jako s kozou na ledě «с ним говорить как с козой на льду»; rozumět jako koza petrželi «понимает как коза в петрушке» (ср. в рус. как свинья в апельсинах). Из образных зоонимических спецификаций, репрезентирующих образ глупого человека, можно выделить рус. свинья и чеш. pes «собака». Плохо разбирающийся в чем-то у русских образно выражен сравнением как свинья в апельсинах, у чехов – jako pes slabikáři (букв. как собака в букваре) или jako koza petrželi (как коза в петрушке). Отсутствие ума актуализируется с помощью образов мелких насекомых, обосновавшихся в голове вместо мозгов, напр. в чеш. má švába na mozku «у него таракан в мозгу», ср. с рус. у каждого свои тараканы.
Как показывает проанализированный материал, образ неумного человека в славянских языках объективирован в фактах вторичной номинации, основанных на следующих признаках, имеющих типологический характер: нарушение траектории движения, движение вспять; кривизна, смещение верхней части дома, постройки; нарушение целостности предмета (в том числе в результате удара); поломка механизма; беспорядок, разруха; неспособность готовить пищу; дерево с твердой или, наоборот, пористой, древесиной; деревянные предметы (чаще всего полые); мусор, отходы; простейшие головные уборы, старая и примитивная обувь; птицы, животные. Базовые метафоры смещения, кривизны, поломки, беспорядка, тупого звука, незаполненной емкости, одежды, обуви усиливаются признаками ветхости, мусора, примитивности, что в целом имплицитно выражает отрицательную коннотацию образа глупого человека.
Как подчеркивалось выше, человеком подмечается и объективируется в языке чаще всего то, что отклоняется от нормы, подлежит осуждению и порицанию. Поэтому все, что является нормой, оказывается неразработанным в языковом отношении. Нормой является наличие ума для человека, поэтому тема умного человека нашла гораздо меньше способов языковой реализации, нежели тема глупца.
Одним из стереотипных метафорических представлений об умном человеке является признак заполненности какого-либо вместилища, помещения умом (в отличие от пустоты, характеризующей отсутствие ума): напр., в рус. кладезь премудрости, бездна премудрости/ учености, ума палата, чеш. má fůru rozumu «у него вагон ума».
Представления об умном человеке связаны и с большим лбом как вместилищем ума, напр., в рус. семи пядей во лбу, представляющем собой гиперболу. Семь пядей – мера высоты лба, пядь – расстояние между концами растянутых большого и указательного пальцев. По мнению А.М. Мелерович и В.М. Мокиенко, если понимать выражение буквально, то лоб человека, имеющий семь пядей, был бы высотой около полутора метров [Мелерович, Мокиенко 2001: 557]. В образ также вкраплена числовая символика: число семь в универсальном мифологическом коде имеет «обобщенное значение большого множества» [там же]. В основе образа лежит метонимия – отождествление соматической части (лба) и мозга, его заполняющего и символизирующего умственные способности человека, его интеллект. Вместе с тем в народе подмечено, наоборот, противопоставление внешних качеств человека, в том числе и большого лба, его внутренним свойствам, что отражено в пословицах: голова как у вола, а все кажется мала; голова с лукошко, а мозгу ни крошки; лоб широк, да мозгу мало.
Признаком умного человека является и констатация наличия у него головы как вместилища ума (рус. он с головой, имеет голову на плечах, чеш. má bystrou hlavu – у него сообразительная, быстрая голова), в чешском языке эта идея передана и иносказательно: má pod čepicí (у него есть под шапкой), má za ušima (у него есть за ушами). Идея наличия и достатка ума лежит и в основе русской идиомы: ему ума не занимать.
Метонимически образ умного человека передается с помощью образа головы, который может иметь конкретизаторы, связанные с понятиями света, разума, быстроты, сообразительности: светлая голова, умная голова, чеш. vtípná hlava «находчивая, остроумная голова» (в отличие от образа глупого человека, ассоциирующегося с «деревянной» головой: голова садовая/ дубовая/ еловая). Национально специфическими образами представлен кулинарный код для обозначения умного, сообразительного человека в русском и чешском языках: ср. рус. у кого голова/ котелок/ черепушка варит – как результат сравнения процесса мышления с процессом приготовления пищи; чеш. jedl vtipnou kaši «ел остроумную кашу» – как результат сравнения обогащения ума с процессом поглощения каши, которая обычно употребляется в больших количествах. Аналогичен в деривационно-смысловом отношении русский фразеологизм собаку съел «о том, кто является знатоком чего-л., имеет богатый опыт в чем-л.», который может быть осмыслен как вербальная реализация «мифологемы еды», смысл которой состоит в следующем: чтобы приобрести соответствующие качества, нужно съесть определенную пищу. В данном случае съесть собаку так же трудно (из-за несъедобности ее мяса), как стать знатоком в каком-нибудь деле.
Своеобразной альтернативой идее незаполненности помещения, отсутствия полной семьи, выраженной в русской идиоме: не все дома и метафорически обозначающей отсутствие ума, является чеш. má všech pĕt pohromadĕ «у него все пятеро вместе», символизирующее умного человека. В русской лингвокультуре идею ума символизировало раньше наличие в голове царя как главного человека в государстве, правителя государства: с царем в голове (в отличие от глупца, который без царя в голове). Сравнение с царем присутствует и в сравнении
мудрый как царь Соломон.
Зоонимический код во вторичных номинациях умного, мудрого человека представлен сравнением со змеей, известным многим языкам, включая русский и чешский: рус. мудрый как змея, чеш. chytrý jako had «умный как змея». Помимо этого сравнения, имеющего универсальный характер, в чешской культуре к «умным» животным относятся также обезьяна и лиса: chytrý jako opice «умный как обезьяна»/ jako stado opic «как стадо обезьян»/ jako liška «как лиса». Возможно, это связано с синкретизмом понятий «умный» и «хитрый, ловкий» в чешском языковом сознании (чеш. chytrý «умный»), и именно с хитростью ассоциируются прежде всего такие животные, как лиса и обезьяна.
Умный человек сравнивается в разных культурах и с чертом, дьяволом, что также связано, скорее, с хитростью, изобретательностью, присущим этому образу: рус. умен как черт/ бес/ дьявол; чеш. chytrý jako čert/ ďabel. Национально специфическими сравнениями являются в русской культуре: ходячая энциклопедия, не голова – а Дом Советов (имеющая, правда, устаревший характер в силу утраты реалии), в чешской: chytrý jako četník (умный как жандарм)/ jako policajt (как полицейский)/ jako advokát (как адвокат)/ jako žid (как еврей).
Ассоциативная связь умного человека с евреем отмечается и в русской
культурной традиции.
Хорошее знание чего-либо объективируется чаще всего в разных культурах с помощью соматических образов как наиболее известных человеку: рус. знать как свои пять пальцев/ (реже) как свою ладонь, чеш. znát jako svou dlaň «знать как свою ладонь». В чешском языке образ пальцев для вербализации рассматриваемого значения конкретизирован: о человеке, который хорошо знает что-либо, могут сказать –
má v malíčku (букв. у него есть в мизинце). Соматический код в русском языке также имеет некоторую специфическую форму выражения хорошего знания: знать назубок. В чешском языке «подключена» для выражения данного значения обувная и вестонимическая метафоры, не задействованные в этом значении в русском: ср. чеш. znát jako své boty «знать как свои ботинки», znát jako svou kapsu «знать как свой карман»/ jako svou vestu «знать как свой жилет» (соответствующие рус. знать
как свои пять пальцев).
К реализации данного значения подключен в обоих языках и религиозный код: и в русском, и в чешском языках хорошее знание чего-либо ассоциируется со знанием основной христианской молитвы: рус. знать как Отче наш и чеш. znát jako otčenáš. Хорошее знание чего-либо реализуется и с помощью буквенно-математического кода: в чешском языке – буквенного: znát (co) ef ef или просто ef ef о хорошо знающем что-л. человеке, в русском – математического: знать как таблицу умножения (правда, в настоящее время все менее актуального в силу распространения калькуляторов и утраты необходимости учить таблицу умножения).
Для обозначения человека, разбирающегося в своем деле до мелочей, используется и артефактный код, реализуемый в данном значении в образах мелких предметов: в русском сознании – винтиков, в чешском – гвоздиков: рус. знать до последнего винтика – чеш. znát do posledního hřebíku «знать до последнего гвоздика» (ср. у кого шариков/ винтиков не хватает по отношению к глупому человеку).
Таким образом, представления об умном человеке в разных славянских языках вербализуются с помощью единых когнитивных моделей, основанных на идеях заполненности, присутствия всех в доме, наличия головы как вместилища ума, с мотивами света, быстроты, принятия определенной пищи, на ассоциациях с образами черта, дьявола, на сравнении со змеей. Хорошее знание чего-либо метафорически представлено в языках знанием руки, ее пальцев, различных мелких деталей, составляющих предмет знания, а также главной молитвы христиан. Специфически русскими являются мотивы большого лба как символа большого ума, наличия царя в голове, сравнение с царем Соломоном как символом мудрого правителя, идея достижения результата движения. Представления чехов об умном человеке также отличаются некоторым своеобразием, связанным с идеей наличия чего-то под шапкой и за ушами, сравнением с обезьяной, жандармом, полицейским, адвокатом, со знанием
своей обуви и одежды.
Национально-культурная специфика особенно ярко выступает на фоне универсальности того или иного культурного кода. В связи с этим сравнение фразеологического материала в разных языках целесообразно проводить не только на понятийно однородном материале (например, характеристика человека с точки зрения внешности, возраста, внутренних качеств), но и в аспекте одного культурного кода (например, только фитонимического, или зооморфного, или кулинарного и т.п.), характеризующего разные свойства и качества человека. Наиболее разработанным в разных языках, включая славянские, является зооморфный культурный код, основанный на метафорическом использовании образа животного, соотносимого с тем или иным качеством человека.
Являясь средством выражения универсального зоонимического кода, фраземы с компонентом-зоонимом нередко несут культурологическую информацию, объективируют особенности восприятия мира природы тем или иным этносом, транслируют культуру народа. При этом во фраземах находят отражение как общеславянские стереотипы восприятия животных и отношения к ним, так и этноспецифические сближения тех или иных качеств человека и животного. Напр., при денотативном сходстве уже упомянутого нами зоонима коза (чеш. koza) он характеризуется различной этнокультурной маркированностью в русском и чешском языках, что находит отражение во фразеологии обоих языков. В русской лингвокультуре этот образ, помимо трансляции глупости (смотреть как в афишу коза), может характеризовать бойкую, вертлявую, и в то же время ловкую девушку, женщину (как коза/ козочка; прыгать, скакать как коза); человека, принужденно и неохотно идущего куда-л. (как коза на веревочке); безжалостное телесное наказание (драть как Сидорову козу); ненужность кому-л. чего-л. (нужен как козе баян). Козел (и его «женский» вариант коза) используется в русской культуре и в функции оскорбления. В чешском сознании образ козы ассоциируется не только с глупостью, о чем уже говорилось выше (вспомним чеш. mluví jako koza před smrtí «говорит как коза перед смертью»; je (s kym) řeč jako s kozou na ledě «с ним говорить как с козой на льду»; rozumět jako koza petrželi «понимает как коза в петрушке») и что сближает его с русским представлением, но и с неуклюжестью (jde/ chodí jako koza na ledě «идет/ ходит как коза на льду», ср. в рус. как корова на льду), сластолюбием (je mlsný/-á jako koza «он/ она сластена как коза»), несуразностью (sluší mu jako koze/ svini čepec «это ему идет как козе/ свинье шапка», ср. с рус. как корове седло), старостью (stará koza), что относится к дифференциальным признакам этого образа в чешском языке.
Конь/ лошадь в обоих лингвокультурах связаны с тяжелой работой, ср. рус. работать как лошадь, чеш. dřit jako kůň. Однако национально специфичными являются определители, с которыми связаны эти зоонимы: рус. как ломовая лошадь, чеш. jako pivovarská kobyla. К тому же слово кобыла употребляется русскими скорее с негативной коннотацией в значении «здоровая, сильная девушка, женщина».
Любящий женщин мужчина называется у русских котом мартовским, у чехов – mlsný kocour (букв. любящий полакомиться кот), при этом также выделяется одинаковый образ, но разные его конкретизаторы.
В чешской культуре корова ассоциируется не только с женской полнотой, как и у русских, но и с громким криком, что объективировано во фраземе řvát jako kráva «громко кричать, издавать рёв, орать во всё горло». В этой связи можно вспомнить русское сравнение ржать как лошадь (о громком, глупо-радостном хохоте и смехе), отсутствующее в чешском. Если верблюд связан в сознании русских с человеком, несущим много тяжелых сумок: нагруженный как верблюд, а также с много выпившим человеком: напиться как верблюд, то в чешском языковом сознании этот образ связывается прежде всего с человеком, испытывающим очень сильную жажду: má žízeň jako velbloud (букв. он хочет пить как верблюд). А зоркие, бегающие глаза рыси послужили основой переносного употребления слова rys в чешском языке в сравнении mít oči bystré jako rys «иметь глаза зоркие как у рыси», русские в этом случае сравнивают
человека с орлом.
В разных славянских языках фразеологизмы нередко образуются по одной модели, но с разными образными компонентами, несущими этноспецифическую нагрузку. Так, фраземы, выражающие значение «сильно преувеличивать», «раздувать незначительный факт, придавая ему большое значение», построены по одной модели в сравниваемых языках: «делать из мелкого насекомого большое животное», но с разным образным наполнением. В русском языке данную денотативную ситуацию вербализует фразеологизм делать из мухи слона, а в чешском – udělat z komára verblouda (хотя возможны и варианты: vola/ slona). Значение «в темноте все одинаковы» выражается с помощью разных зоологических мотивов: в рус. ночью все кошки серы и чеш. potmě je každá kráva černá (в темноте каждая корова черная). По отношению к жадному человеку русские употребят сравнение как собака на сене (синоним ни себе ни людям), чехи же в такой ситуации сравнивают человека с жабой, сидящей на источнике: jako žába na prameni. Русское устойчивое сравнение крутиться как белка в колесе является результатом когнитивного наложения образа беспрерывно крутящейся в барабане белки на образ занимающегося разными делами и не имеющего ни минуты свободного времени человека. О таком человеке чехи скажут: běhat jako křepelka (бегать как перепелка). Скользкий, нечестный, лживый человек ассоциируется у русских с зоонимом угорь, послужившим основой пейоративного компаратива выкручиваться как угорь. В чешской лингвокультуре такой человек соотнесен с дождевым червем (чеш. žížala), ставшим основой сравнительного оборота kroutit se jako žížala. Способность рыбы беззвучно открывать рот послужила основой сравнения человека, потерявшего дар речи от удивления или изумления, беззвучно открывающего рот, с рыбой во фраземе открывать рот как рыба. В чешском языке такая ситуация вызывает образ не любой рыбы, а наиболее популярной и распространенной в данной культуре – карпа: otvírat ústa/ hubu jako kapr. Нелюдимого, одиноко живущего человека в русской культуре представляет образ медведя или волка: жить как медведь в берлоге, одинокий как волк. У чехов данная ситуация связана с образом суcлика: žít jako sysel v díře.
Про человека с плохим почерком русские скажут: пишет как курица лапой. В этой ситуации чешское языковое сознание апеллирует к образам кота (с курицей их связывают наличие коготков на лапах) или дятла: drápat jako kocour. Русское сравнение облизываться как кот на сметану находит аналог с образом другого домашнего животного в чешском языке – собаки: chodit kolem něčeho jako mlsný pes (букв. ходить вокруг чего-л. как сластолюбивая собака). Крепко спящий человек в русском языковом сознании связывается с сурком: спать как сурок, в чешском – с удодом: spat jako dudek.
Наблюдения над тем, как быстро отряхивает с себя воду гусь, вызвали к жизни русское сравнение как с гуся вода, употребляемое по отношению к человеку, который не обращает внимания на критику других. В чешской культуре такой человек ассоциативно связан с образом быстро отряхивающейся от воды собаки: otřepat se jako pes. К любящей путешествовать женщине у русских применима логоэпистема лягушка-путешественница, чехи употребят в таком случае выражение být přeletavá jako motýl (букв. летает как бабочка). Образ рыбы, беззвучно открывающей рот, ассоциативно связан в русской культурной традиции с человеком, который ничего не может сказать от удивления: открывать рот как рыба. У чехов образ рыбы конкретизирован: это наиболее популярный в Чехии карп – otvírat ústa jako kapr. При этом образ рыбы ассоциируется в чешском языковом сознании со здоровьем, свежестью, бодростью, ловкостью, что вербализовано устойчивыми сравнениями: zdravý jako ryba (ср. с рус. здоровый как бык), čilý/ čerstvý/ mrštný jako ryba (букв. «бодрый, свежий, ловкий как рыба») и нетипично для русских. Обидевшийся на что-л. человек русскими сравнивается с индюком, а также с мышью: надуться как индюк, надуться как мышь на крупу, чехи сравнивают такого человека с голубем: nafouknout se jako holub. Животных, называемых данными зоонимами, отличает нахохлившийся вид, что и послужило основой сравнений.
Образ голубя вообще весьма распространен в чешской лингвокультуре. О беспокойном, ерзающем на месте человеке чехи скажут: točí se jako holub na báni (букв. крутится как голубь на куполе), у русских в данном случае оказывается актуализированным образ ужа: вертится как уж на сковородке. Русская пословица лучше синица в руках, чем журавль в небе имеет построенную по той же модели, но с другими образными компонентами паремию lepší vrabec v hrsti nežli holub na střeše (букв. лучше воробей в горсти, чем голубь на крыше). Больше сравнений в чешском языке, чем в русском, и с образом мухи, напр., zabít dvĕ mouchy jednou ranou (ср. с рус. сразу двух зайцев убить), být/ cítit se (slabý) jako moucha (букв. «чувствовать себя слабым как муха»), je tam lidí jako much (ср. с рус. людей как муравьев). Специфическим в чешском языке является и сравнение замерзшего, окоченевшего человека с дроздом (а также баранкой): být (zmrzlý) jako drozd/ preclík (русские в этом случае скажут:
замерз как цуцик).
Считаем необходимым отметить, что многие образные сравнения в чешском языке связаны с немецкой культурой, оказавшей большое влияние на чешское мировосприятие, что получило отражение в языке. Многие из приведенных выше фразеологизмов являются кальками с немецкого и имеют там абсолютные аналоги.
Анализ фактов косвенно-производной номинации, подлежащих сравнению как с точки зрения их когнитивной отнесенности, так и в аспекте принадлежности к тому или иному культурному коду (в частности зооморфному, представленному в нашем материале), проведенный в сопоставлении двух славянских языков, дает основание утверждать, что, с одной стороны, они отличаются универсализмом, выражающимся в действии одинаковых моделей, в общих логических основаниях переноса наименования, с другой – нередко несут на себе печать этнокультурного своеобразия, являются национально-культурными маркерами, отражающими особенности восприятия мира разными славянами. Таким образом, фразеологические номинации, с одной стороны, объективируют интернациональное, межславянское, с другой – национальное, уникальное с точки зрения разных, даже родственных, культур. Несмотря на то что конкретная реализация единых моделей переноса наименований в языках может быть национально специфичной, их сближает и общая коннотативная характеристика, выражающаяся в отрицательной или положительной оценке номинируемых лиц по их качествам, что в конечном счете является целью вторичной номинации. При этом обращает на себя внимание преобладание единиц с негативной коннотацией, выражающих неодобрительное отношение говорящих к тем или иным качествам
человека, что связано с известными особенностями мировосприятия, при котором положительные явления воспринимаются как норма, а потому остаются без внимания, а отрицательные вызывают неприятие, осуждение, что закрепляется в языке.
Подобное билингвальное сравнение имеет не только теоретическое значение в плане создания типологии семантических трансформаций и выявления их национально-культурной специфики, но и большую лингводидактическую ценность. Сравнение двух славянских языков в аспекте архетипических дихотомий или в соответствии с тем или иным кодом культуры особенно актуально в наше время, в условиях, когда с новой силой встает проблема совершенствования методики преподавания русского языка как инославянского. Антропоцентрическая и лингвокультурологическая парадигмы исследования лексического и фразеологического материала разных языков в сопоставительном аспекте позволяют выйти на новые, наиболее рациональные принципы отбора и группировки лексико-фразеологического материала с целью эффективного изучения его представителями иной славянской культуры. Представленный подобным образом материал убедительно доказывает, что при изучении другого славянского языка нужно смотреть на него с точки зрения иной лингвокультуры, несмотря на языковое родство изучаемого и родного языка и общность значений многих первичных номинаций.
Библиографический список
Алефиренко Н.Ф. «Живое» слово. Проблемы функциональной лексикологии. М., 2009.
Березович Е.Л., Леонтьева Т.В. Языковой образ дурака: этнолингвистический аспект // Язык культуры: семантика и грамматика. М.: Индрик, 2004. С. 368-383.
Манакин В.Н. Сопоставительная лексикология. Киев, 2004.
Мелерович А.М., Мокиенко В.М. Фразеологизмы в русской речи. М., 2001.
Телия В.Н. Русская фразеология. Семантический, прагматический и лингвокультурологический аспекты. М., 1996.
Словари
Бирих А.К., Мокиенко В.М., Степанова Л.И. Русская фразеология. Историко-этимологический словарь. М., 2005.
Большой фразеологический словарь русского языка. Под ред.
В.Н. Телия. М., 2006.
Мокиенко В.М. Словарь сравнений русского языка. С.-Пб., 2003.
Русский семантический словарь. В 3-х т. / Под общей ред. Н.Ю. Шведовой. М., 2002.
Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. В 4-х т. М., 2004.
Klégr A. Tezaurus jazyka českého. Slovník českých slov a frázísouznačných, blízkých a příbuzných. Praha, 2007.
Mokienko V., Wurm A. Česko-ruský frazeologický slovník. Olomouc, 2002.
Pala K, Všianský J. Slovník českých synonym. Praha, 2008.
Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. Praha, 2003.
Velký česko-ruský slovník. Leda, 2005.
Е.М. Маркова
Московский государственный областной университет,
г. Москва, Россия
Университет Св. Кирилла и Мефодия,
г. Трнава, Словакия