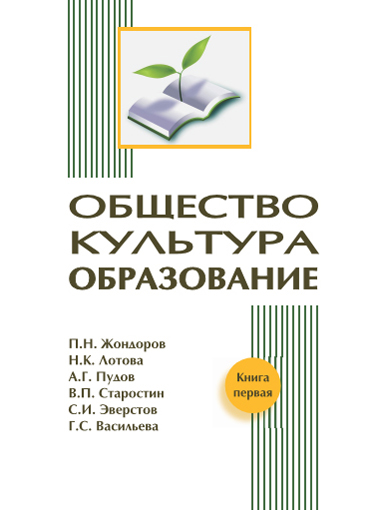Научная электронная библиотека
Монографии, изданные в издательстве Российской Академии Естествознания
Часть 2. МОРАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБЩЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ
Моральное сознание воспринимается нами не просто как свод норм и ценностей, которые утверждаются и культивируются данным обществом. Мораль всегда имеет компонент активности своей сущности. Она требует не только постулировать определенные устои: вести нравственную жизнь – это всегда означает неустанный поиск морально-нравственных ориентиров своего бытия, утверждение своей жизненной позиции, наполнение его светом и смыслом гуманистических идей. Без искания ценностного и мировоззренческого наполнения жизнь человека в обществе становится похожей на заранее заведенный механизм, на прежде сверстанную программу. Ценность нравственных поисков обостряют чувство жизни, придают человеку особую полноту бытию (достаточно вспомнить саркастическую характеристику, данную Гёте филистеру: пустая кишка, которая наполнена страхом). Только в этих исканиях человек может обрести моральную свободу.
Нравственные искания, жизненная позиция и сознательные поступки, их гармоничное сочетание являются важнейшими элементами жизни индивида. При их отсутствии человеческая жизнь оказывается неполноценной не только в социальном, но и в индивидуально моральном плане. Как пишет российский философ, академик А.А. Гусейнов: «Мораль освящает путь человеческой жизни... Она посюсторонняя... Ее миссия... дать определенное направление самому историческому бытию. Мораль есть правда земной жизни и вне конкретного наполнения, вне связи с жаждой счастья ее не существует. – Мораль ответственна за осмысленность жизни человека»[30].
Но такой взгляд на мораль существовал не всегда. Аристотель, рассматривая вопрос об ответственности субъектов за свои поступки, говорит: «Если непроизвольное совершается подневольно и по неведению, то произвольное – это, по-видимому, то, источник чего – в самом деятеле, причем знающем те частные обстоятельства, при которых поступок имеет место»[31]. При этом произвольные поступки расцениваются шире сознательного выбора: «к произвольному причастны и дети, и другие живые существа, а к сознательному выбору нет, и внезапные поступки произвольными мы называем, а сознательно избранными – нет»[32]. Таким образом, получается, что за свои произвольные поступки несут ответственность и дети, и рабы, и даже... животные.
Особенно интересными в этом отношении являются идеи социобиологов. Эволюционный подход в социологии был сформулирован на основании идей Ч. Дарвина. Две главы его «Происхождения жизни»[33] были специально посвящены проблемам становления нравов. Сам Дарвин воспользовался философскими идеями, воспринятыми главным образом у Д. Юма и А. Смита. Основным условием возникновения нравственного сознания Дарвин считает то, что социальный инстинкт преобразуется в моральные принципы лишь при более высоком развитии душевных способностей. Доминирование социальных инстинктов происходит под воздействием не сколько инстинктов, а сколько на основе представлений, которые создают «образы всех прошлых действий и любовь»[34]. Но и при этом, «привычка играет важную роль у каждой особи» и «социальный инстинкт и симпатия укрепляются привычкой». Столь витиеватый и усложненный способ объяснения генезиса морали Дарвин избрал, скорее всего, для того, чтобы не войти в противоречие с самим собой. Ибо, если бы продолжение рода и выживание, беспощадная борьба за существование более основанные на индивидуальном эгоизме, были первостепенными в иерархии инстинктивных ценностей первых людей, то вряд ли ему надо было бы выходить из животного состояния. По всей видимости, загадка появления у первобытного человека этических и эстетических чувств так и осталась для ученого англичанина неразгаданной.
Одним из наиболее важных и явных признаков сближения гуманитарных наук и биологии заключается в том, что по современным научным представлениям невозможно полное описание всей структуры и функций отдельных подсистем и всей системы живых организмов. При описании и моделировании биологических объектов ученые принимают не только онтологически, но и гносеологически принцип эмергентности, при котором в невозможно полное, окончательное и «объективное» познание, но возможно понимание. Как остроумно отмечал немецкий философ и психолог В. Дильтей: «Если природу мы объясняем, то душевную жизнь понимаем»[35]. Теперь предстояло такую же методологию исследования применить по отношению к естественным наукам. Во многом это очень сходна с физически ориентированным позитивизмом П. Сорокина, который в своей «Системе социологии»[36] писал, что его социологии нужна своя «единая теория взаимодействий» и своя методология, построенная на специальной теории познания, не вполне естественно-научная, но и не «чисто гуманитарная» гносеология.
Надо сказать, что такое представление начало складываться задолго до приобретения наукой доминирующего положения в человеческой жизнедеятельности. Его истоки можно найти не только в догадках античных философов и фисиологов, но и в гностических недогматических формах морального сознания Средневековья. Представление о том, что все в мире создано Богом, и все что нас окружает, и мы сами являемся тварями – творениями Божьими естественным образом приводит нас к мысли об единстве и многообразии мира. И вопрос об единстве духа и тела встает сам собой. Конечно, идеалом могло быть только преображенное, благодатное тело, но религия не отказывается от природности его происхождения. Однако, низовая культура, проживающая профаническую жизнь, была пронизана языческой энергией, утрирующей телесные функции как божественно предопределенные. Она подчеркивает индивидуальность телеустройства человека, абсолютизирует его животные черты, даже дефекты и уродства, свидетельствуя об ограниченности способностей и избыточности самотической стихии в людях, нарушающие все эстетические черты. Пусть и заранее заданные Богом. Поэтому нет ничего удивительного в том, что люди издревле наделяли человеческими чертами окружающую природу и присваивали себе природные силы и свойства.
Несомненным является и тот факт, что, древним были хорошо известны случаи взаимной помощи и альтруизма в животной среде. Они рассматривали их как проявления просоциальных форм, как предпосылки социальности у человека. Однако только в середине XIX века идеи психической эволюции становятся бесспорными в сознании естествоиспытателей и исследователей. Представление об эволюции человека как естественно-историческом процессе – глубоко эволюционное по существу, породило новое направление – социологию животных. В начале XX века появляется фундаментальный труд А. Эспинаса «Социальная жизнь животных»[37], в которых, рассматривая «уровни социальности» в случайных ассоциациях между животными разных видов (например, паразитизм или различные формы мутуализма), выводит некоторые основные принципы, в основе которых лежат организации «истинных» сообществ. Прежде всего это касается условия постоянного сотрудничества между отдельными существами не только одного вида. «Взаимный обмен услуг между более или менее независимыми деятелями – вот самая характерная черта социальной жизни…»[38]. Он выделяет так называемое «нормальное общество» – сообщество, которое характеризует самую высшую ступень животно-социальной иерархической лестницы. Говоря о том, что лежит в основе таких сообществ, Эспинас считает: «Простой и естественный переход к племени и сообществу коренится не в отношениях отца и матери и родителей к детям, но во взаимных отношениях членов нарождающегося поколения»[39]. Именно эти молодые члены семьи – братья и сестры, пока вряд ли сознающие себя таковыми, не связанные узами воспроизводства, не связанные семьей, но с чувством любви и единства к себе подобным – вот и основа, зародыш «истинного» общества. Симпатия – братская любовь и есть первая существенная причина племенного сообщества. Эту братскую любовь, взаимную привязанность членов нарождающегося поколения Эспинас выявляет через альтруизм.
Альтруизм как нравственный принцип предписывает бескорыстные действия по отношению к другому, во благо другого. Термин был введен в научный оборот О. Контом для фиксирования понятия, которое противоположно понятию «эгоизм» и выведен из комплекса представлений о благожелательности, милосердии, благодеянии, симпатии, заботе и др. Как принцип, по Конту, он гласит: «Живи для других». Его также можно интерпретировать в духе «золотого правила»: «Поступай так, чтобы твой личный интерес служил чужому интересу»[40].
Но если допускать альтруизм по отношению к другим людям и считать, что это есть проявление милосердия, братской любви, то есть ли такое чувство у животных? Ведь только в этом случае мы можем считать сострадание феноменом универсальным для всех живых существ.
С точки зрения социобиологов альтруизм развивается из материнской, отцовской или братской любви, т.е. любви к самому себе, перенесенной на своих сородичей. Это перенесение происходит в силу того, что животным в борьбе за выживание приходится не сколько тратить себя на борьбу с другими сородичами за место в иерархии, сколько постоянно сообща вести борьбу за существование. Как пишет П.А. Кропоткин в своей книге «Взаимная помощь, как фактор эволюции»: «… Необходимо… определить истинные размеры и значение в природе единичной борьбы за жизнь между членами одного и того же вида животных, по сравнению с борьбой целым сообществом против природных препятствий и других видов»[41]. Кропоткин трактует альтруистическое поведение как взаимную помощь, любовь, притом распространяя его и на неродственных особей. Наиболее яркими являются именно такого рода отношения партнеров: примеры супружеской верности у птиц (аистов, лебедей и т.п.), помощи друг другу брачными партнерами, помощи молодым и престарелым членам стада, более того, оказание помощи представителям другого вида. Альтруизм, по всей своей полноте (феноменологии) из предпочтения родичей (kin preference) – феномена имеющего генетические корни. Иначе возможности сведения к нему какой-либо формы паразитизма.
Так называемое «помогающее поведение» было объяснено в концепции Р.Л. Триверса, и получила название «взаимного (reciprocal) альтруизма»[42], когда особь совершает некоторые поступки, полагая, что в последующем ей отплатят тем же. В.П. Эфроимсон в выше названной статье указывал, что фиксирующиеся в процессе эволюции генетические механизмы лежат практически во всех проявлениях морали: альтруизма (рассматриваемого достаточно широко), заботы, помощи, самоотверженности, самопожертвования, чувства сострадания, долга, совестливости, благородства и даже однолюбия и почитания девственности. Правда, данные сравнительно-этнографических исследований оказались для автора явно недостаточными. Например, хотя ценность целомудрия и признается в большинстве культур, она не является универсальным[43]. Однако, альтруизм в этическом понимании не может базироваться на индивидуальной или коллективной выгоде, пусть даже растянутого во временном измерении. В этом смысле даже материнская любовь как свой вклад в беззаботную старость в будущем не является любовью в моральном отношении и нравственно ценным.
Это положение оказалось предвестником глубокого кризиса биосоциальности. Э. Уилсону пришлось даже внести некие коррективы в свою идею социобиологии человека основанную, как мы указали, на выведении действительно биологических корней морали: он уточнил, что социальное поведение развивается совместно с анатомией, но «моральные суждения не являются свойствами молекул»[44]. По представлениям Уилсона и его коллег, определяющее воздействие на мышление и поведение человека оказывают т. н. эпигенетические правила, т.е. механизмы, возникающие в психике и имеющие свой материальный субстрат в человеческом мозге, возникающие в процессе взаимодействия с окружающей средой. «Мораль зашифрована в эпигенетических правилах и прежде всего во вторичных... Как сущность, так и форма этих правил управляются механизмами, порождающими альтруизм», «и чувства обязанности, которые мы испытываем по отношению к членам нашей семьи»[45].
Но ведь и категорический императив И. Канта также покоится на вторичных эпигенетических правилах. Основы их восходят и к учению Дж. Локка о двух источниках возникновения восприятия у человека: из внешних по отношению к нему ощущений, т.е. из данных опыта и его рефлексии, внутреннего опыта ума, разумной деятельности[46]. Речь идет о том, что любая среда, в том числе и социальная, оказывается тем самым фактором, определяющим зарождение и развитие органических и функциональных структур, в том числе и тех, которые несут ответственность за моральное поведение.
Не вызывает сомнения ценность социобиологических исследований, для выявления нравственного содержания разумной (и неразумной) жизни человека, особенно на первых порах становления человеческих сообществ. Моральные высказывания за всю писаную историю человечества менялись – нельзя сводить воедино мораль и нравы человека архаического и времен античности, средних веков и эпохи Возрождения. Но вместе с тем в моральном всегда есть нечто непреклонное, незыблемое, некое божественное в себе (слово «божественное» мы применяем в самом широком смысле, не сводя его только к религиозному пониманию). Мораль делает человека свободным, возвышает его над обыденностью. Это, как говорил И. Кант, практическая философия, возможно, предфилософское знание, предтеча, первая попытка философствования вообще.
Человек сам по себе не является локковским tabula rasa, он не сосуд, который со временем, в процессе общественного воспитания заполняется всем необходимым для жизни в повседневном мире. Он с момента рождения генетически является носителем специфически человеческой биологии, он уже готов к восприятию культурно-исторических достижений нашего общества. В процессе индивидуальной эволюции человек, как бы вновь проходит все стадии антропогенеза. Впрочем, это составляет предмет антропологии. Так что на социобиологическом уровне до конца не раскрывается нравственность как таковая. Можно говорить о различных формах сотрудничества, взаимного действия, кооперации, приспособленчества, но не об альтруизме как основе благожелательности, милосердия, самопожертвования и сострадания. Говоря о центральной проблеме, нами рассматриваемой, Я.А. Новак считает, что проблема альтруизма – «в действительности возникает из недоразумения»[47]. Это высказывание можно продемонстрировать следующим образом: предположим, что в группе существуют особи, «самоотверженно жертвующие самим собой», «милосердно отказывающие от своего в пользу другого», т.е. некие явные «альтруисты-храбрецы». Но, логически рассуждая, мы придем к выводу, что в таком сообществе будут выживать и тем самым сохранять и передавать свою генетическую информацию те, кто будет «равнодушным», не «храбрецом», а скорее «равнодушным трусом», так как их выживаемость в обществе будет высокой. «Если в храбрости существует компонент самопожертвования, то нет способа, с помощью которого альтруистические генетические тенденции могут усиливаться по сравнению с тенденциями к самосохранению»[48]. Если коротко, то все биологизаторские теории воспринимают социальную жизнь, в том числе и мораль – как регулятор взаимоотношений в сообществе, как механизм адаптации. Если родовая характеристика способности к взаимодействию, сотрудничеству, кооперации не вызывают сомнения, то выведение морального сознания из биологического синкрета, утверждение о жесткой эволюционной обусловленности морали, в том числе феноменов альтруизма, милосердия, сострадания и т.д. нельзя признать убедительными. Конечно, сотрудничество в животных популяциях, стаях, кланах, отличается от взаимодействия в обществах людей. Одно из отличий обществ человеческих как раз в том и состоит, что сотрудничество опосредуется различными важными идеальными факторами, как идеологическими, так и мотивационными. Характер этих факторов постоянно варьируется. Это может быть и принуждение, и одобрение, и материальная необходимость, и экономические интересы, и любознательность, и целеустремленность, и вера, и солидарность, и благотворительность, и человеколюбие и т.д. Тот образ альтруизма, о котором мы говорили выше, более всего, в морально-философском категориальном аппарате, тяготеет к утилитаризму, а в конечном счете, сводится к эгоизму, т.е. к своей противоположности. Нравственность в поступках людей, по сути своей, в основном, не является деянием целесообразным, тем более корыстным. К тому же она всегда выступает как деятельность социально-духовно-творческая. Социобиологи часто упускают этот момент в своих рассуждениях: человек не только существо приспосабливающееся, оно еще и творчески-преобразующее. Как удачно заметил Н. Бердяев – эволюционизм забывает о свободе и творчестве, связывают «динамизм человеческой природы» с эволюцией, а не со свободным творчеством[49].
Говоря о моральном в человеческом, социобиологи всегда рассматривали его как особый, сложный социально-культурный феномен, компенсирующий имманентную утерю биологических механизмов самосохранения, приспособления, продолжения рода. Такое мнение высказывал и Г. Спенсер[50]. Последовательный его ученик К. Лоренц понимал мораль как социальный, культурный фактор, сформированный в ходе естественной эволюции и фиксирующий на внебиологическом уровне функциональные связи, которые в обычных условиях протекают в рамках биологических механизмов. Он считал, что у животных, наряду с инстинктом агрессивности существует и инстинктивный запрет на братоубийство[51]. Вполне возможно, что такой же запрет есть и у людей в их архетипе, однако условия социализации во многом изменили его и опосредовали различными идеальными установлениями и мотивациями (виновность, защита родины, «во благо последующих поколений» и т.д.). Мораль в данном случае является одним из социальных механизмов, замещающих инстинкты. По логике, вполне возможен и обратный процесс, который мы часто наблюдаем в обыденной жизни: высокая человеческая мораль порой замещается инстинктами (месть, зависть, гнев и т.д.).
По всей видимости, все проблемы социобиологического подхода связаны с ограниченностью такого взгляда, прежде всего связанные с представлением о вторичности социальности, об адаптивном характере процесса социализации. Представление об иерархии, «лестнице социальности» ведет к установлению границ социальности на основе репродуктивного разделения функций, деятельности. И все это несмотря на тот огромный вклад социобиологии, который утвердил идею социальной преемственности, доказав естественный путь происхождения общества, а не путь «общественного договора».
Рассмотрение данной проблемы было бы неполным, если не коснемся представления о социальном архетипе. Описывая его Ю.М. Плюскин в своей книге «Проблема биосоциальной эволюции»[52] пишет, что архетип представляет собой прообраз, идею (например, в аналитической психологии Юнга) и означал первоначальные, врожденные психические структуры, первичные схемы образов, содержащихся в коллективном бессознательном и априорно формирующих активность, лежащую в основе общечеловеческой духовной культуры. Это древнейшая, первоосновная, принципиальная форма. Исходя из концепции Ю.М. Плюскина предполагается, что все многообразие конкретных форм социальных структур, наблюдаемое как в природе, так и сообществе людей, основываются на единственном, универсальном каркасе, который состоит из немногих принципиальных видов отношений между организмами. Автор приводит аналогию с домом: у самых разных по конструкции и форме домов, совершенно разных, не похожих друг на друга, внутренний каркас всегда одинаков. Так и социальные системы создаются по одному и тому же плану. «Но это многообразие имеет совершенно естественные, внутренние причины: любое взаимодействие ведет именно к таким видам взаимных отношений, а не к каким либо другим»[53]. Таким образом, само наличие во взаимодействиях между живыми существами социального архетипа во всей своей полноте доказывает о наличии социальной организации. Наличие между сородичами отношений по поводу ресурсов, воспроизводства, распределения социальных ролей и действий, направленных на поддержание единства необходимо и достаточно создают жизнеспособную организацию.
Во времени и в пространстве мы наблюдаем конкретные социальные формы, а не сам социальный архетип. Как целое не сводимо к единичному, так и орган ни по своей функции, структуре не может быть сведен к составляющим его клеткам, так и формы социальной системы не исчерпываются характеристиками существующих в них отношений. Касаясь общественных отношений, можно сказать, что нормы поведения устанавливаются в каждом сообществе самостоятельно, независимо и обуславливаются конкретными формами социальных отношений и условий. Поэтому некоторая нормативность, моральность поведения, в конечном счете, оказываются реляционными характеристиками, признаками общества. Невозможно по одному единственному феномену, проявлению, форме поведения судить обо всем обществе, об его моральности. Но сам архетип в социальной сфере изначально универсален и представляет собой единство. Он существует вне времени, вне родовой и видовой принадлежности. Он внеисторичен, однако, социальный архетип может выступить как основание, как точка отсчета, позволяющая начать строить здание исторической социоэтологии, и может быть положена в основание теории социальной обусловленности поведения любого существа, которое заранее не закодированы, генетически не детерминированы. Плюскин заранее признается в идеальности подобной конструкции и корни его видит в идеях Платона.
Говоря о соотношении социального и биологического в нравственности, об универсальной социальной детерминированности человеческой природы мы приходим к выводу: современное представление о прогрессивной эволюции социальности, как постепенного изменения от простого организма до человеческого общества, теперь не может приниматься как истина в последней инстанции. По всей видимости, при универсальности развития, движения, социальная жизнь не эволюционирует в привычном виде, а представляет как некая особая собственно социальная жизнь, социальная история, уникальная для каждой системы, каждого вида и для каждой популяции. Вот почему при всем желании невозможно создав социальные условия, подобно человеческим, воспитать из человекоподобных обезьян людей. Мы никогда не сможем до конца объяснить, обосновать организацию социальной жизни у муравьев, пчел или дельфинов. Как и, наоборот, для всех остальных живых существ основы и принципы жизни человеческих сообществ останутся непонятыми и не воспринятыми до конца. В этом проявляется единство и многообразие биологической формы движения материи. Можно согласиться, что «жизнь – это такое явление природы, которому присуще направленное развитие от низшего к высшему, от простого к сложному и, наоборот, от самосохранения до альтруизма, пожертвования собственной жизнью ради жизни других. Если явлениям неживой природы присуще существование, то живой природе свойственно направление развитие ее конкретных форм в процессе чего они осуществляют свое жизнепроживание и выживание»[54].
Следовательно, мы можем только наблюдать, и, сравнивая поведение животных со своими поступками предполагать, что, например, они крайне по человечески принимают уход из их жизни близких им людей (хозяев) или своих сородичей. Что в этом более проявляется – исчезновение хозяина (всемилостливо позволяющего и столь же всесильно запрещающего), как источника пропитания или, действительно, это есть потеря друга и товарища, которая лишает их смысла в дальнейшем существовании? Если мы согласимся с последним, или, наоборот, опровергнем его как таковое, нам придется согласиться, что действия такого порядка подтверждают выход альтруизма за рамки простой схемы «люблю – не люблю», «удовольствие – неудовольствие». Сострадание ни в коем случае нельзя воспринимать только как ответную реакцию на боль, присущую любому живому существу высшего порядка – эмпатию, симпатию и т.п., или как обыкновенную жалость, проявленную к лишениям, страданию. Человеческое сострадание может быть выражено без ожидания вознаграждения в будущем; оно может оказаться и вовсе вневременным. Ведь мы выражаем свое сострадательное отношение к людям, давно ушедшим из жизни, к событиям, имевшим место во времена давно минувшие. Без этого чувства невозможна наша общая память, наша общественная история. Сострадаем мы только по отношению к другим, к чужому «Я», к «не–Я». Если жалость возможна и по отношению к самому себе, то сострадать можно только горю, беде, печали другого; как и сорадоваться можно только по отношению к чужой радости, счастью, успеху. Это возможно представить только в системе сообщества одновременно совмещающего фиксирование своего прошлого, анализ общего настоящего и прогноз всеобщего будущего.
В своем знаменитом письме, адресованном на имя короля Фридриха-Вильгельма II И. Кант отвечая на обвинение в антирелигиозности пишет о своей совестливой ответственности (gewissenhafte Verantwortung): сказав, что «… ответ мой по совести таков…»[55], он полностью отказывается от выступлений по вопросам религии. Логика данного письма немецкого философа такова: я не считаю себя виновным, потому замолкаю. Подлинной инстанцией ответственности становится не король, не суверен, а разум, который в свою очередь есть основание абсолютного нравственного закона. Долг как принуждение посредством закона является внутренним судилищем, судом всеобязывающим. «… Совесть есть внутренний судья над всеми свободными поступками… совесть должная мыслиться как субъективный принцип ответственности перед богом за свои поступки; понятие же ответственности (хотя и туманно) всегда содержится в моральном самосознании»[56].
Общая человеческая нравственность есть не только сложившаяся в процессе генезиса и признанная окружающими совокупность норм, правил поведения, выступающая регулятором отношений к различным социальным группам, обществу в целом и поддерживаемых личным убеждением и силой общественного или группового мнения – наказания или одобрения. Мораль как таковая построена на определенных ограничениях. Однако, вполне естественно и то, что любое ограничение мы можем воспринимать как подавление. Но это такого рода подавление, которое налагает на себя сам человек, руководствуясь своей внутренней или внешней потребностью. Только с помощью такого подчинения своего поведения нравственными императивами человеческое сообщество сумело выйти из своего прежнего животного состояния и получило все необходимое для дальнейшего совершенствования своей внутренней духовной природы, для постижения истины. Человек в отличие от других биологических видов понимает, что такое долг и ответственность, а они подчиняются нашей морали.
После всего изложенного напрашивается необходимость четкого разделения двух, кажущихся синонимами, видов помогающего поведения – альтруизма и сострадания. Рассмотрение альтруизма выраженного дефиницией – любовь и забота о других; стремление к благополучию для других при отсутствии явной выгоды для себя, склонность безвозмездно жертвовать собой ради группы – показывает, что его мы можем зафиксировать практически во всех биосоциальных группах. Однако, вряд ли тот альтруизм, который мы наблюдаем у животных, исходит из сострадательной деятельности, определяемой нами как сознательное восприятие чужой боли, горести, добровольное принятие на себя ответственности за чужое страдание.
Можно сказать, что невозможно сострадание представить без альтруизма, но альтруизм без сострадания вполне возможен. Альтруистическое поведение может исходить и из требований вероисповедания, из собственного понимания долга, чести, достоинства, исполнения служебных обязанностей и т.п. В конце концов, из инстинктивного чувства ответственности за сохранение своего рода, заложенных биологически материнских чувств и т.д.
Сострадание берет свое начало из общебиологического принципа альтруизма и исходит из глубокого архаического поведенческого начала, диктующего оказывать помощь ради самосохранения рода без расчета на внешнее вознаграждение. Вместе с тем, оно не сводится к помогающему поведению, представляя собой более сложную разумную человеческую деятельность, которая актуализируется в социальной жизни. Именно в человеческом сообществе сострадание, сочувствие начинают приобретать нравственную ценность и цельность. Так что, хотя человеколюбие возникает в далеком детстве людей, в биологическом начале человечества, его дальнейшее воспроизведение и незыблемость выходит за рамки альтруизма. Этот процесс пунктирно можно обозначить так: биологическое начало – помогающее поведение – альтруизм – сострадание. Но далее сострадание уже на ином, более высоком уровне возвращается к своему биологическому, сознательно благотворно воздействуя на свое существование и существование всего сущего в окружающем мире. Таким образом, в помогающем поведении мы можем разглядеть исток, но не сам предмет – феномен сострадания.
Человек и общество представляют собой два неотделимых друг от друга атрибута социальной реальности, органичной частью которой является мораль. А истинная человеческая жизнь невозможна без морального выбора – выбора созидательного, целенаправленного и осознанного. Нельзя сделать нравственный выбор там, где уже имеется образец наилучшего поступка, где заранее просчитано одобряемое решение. Вот поэтому нельзя в полной мере оценивать с позиций моральности или аморальности действия людей как в первобытном состоянии («борьба всех против всех»), родовом обществе («поступай как все»), так и в обществе тоталитарном. Если ты заранее знаешь, как правильно поступать (например, согласно требований партийного устава или морального кодекса), то сложно говорить собственно о самостоятельном поступке и свободном выборе вообще.
Каково же соотношение должного и ценностного в истории этической мысли? При рассмотрении всего богатства этических идей становится ясно, что подавляющее большинство этих концепций категории блага, ценности выступают как первооснова оправдания в морали. Это и гедонистически–эвдемонистическая традиция, начинающаяся в античной философии, связанная с именами Демокрита, Эпикура, Лукреция, продолженная Т. Гоббсом, Д. Юмом, французскими и английскими материалистами XVII века, утилитаристами, вновь подхваченная Л. Фейербахом, Д. Дрейком, поздним Б. Расселом и др.
Понятие блага, как исходная категория нравственности, имеет своими предпосылками этические идеи Сократа, Платона, Аристотеля, Б. Спинозы, А. Шефтсбери, Дж. Мура и их последователей в рамках школы аксиологического интуитивизма. А среди приверженцев категории должного как основы этического можно назвать древних стоиков и киников, Лютера, Канта, Кьеркегора, сторонников теории нравственного чувства XIX–XX веков.
Последователей первой тенденции намного больше. Это объясняется тем, что «основная задача виделась в философском объяснении содержания нравственных требований к человеку (для чего они нужны человеку или обществу, какова их природная, социальная или сверхъестественная целесообразность), постольку, естественно, всякое долженствование основывалось в конечном счете на понятие ценности («высшего блага», пользы, интереса и цели)»[57]. Таким образом, главная задача этики состоит в том, чтобы убедить человека в самоценности моральных поступков, в их достоверности «по природе» или «от бога». По мнению Сократа, если человек видит, что для него является благом, то он просто не способен выбрать зло, «предпочесть недоброе»[58]. Это могло быть как божественное просветление, так и результат нравственного воспитания. В противовес сократовскому упованию на победу силы разума киники и стоики акцентировали свое внимание на понятии долженствования: оно должно было стать обязательным требованием от человека самообуздания и самопринуждения чувств, инстинктов и эмоций[59], что в поздней античности было афористически выражено Овидием: «Вижу и одобряю лучшее, но следую худшему»[60]. Такого рода выводы мы найдем и в древнекитайской философии, у Конфуция: «Увы, я не видел, чтобы добродетель любили так же, как красоту»[61]. В древнеиндийской традиции внутреннее совершенство человека и исполнение обязательных законов выступают как разные ступени моральности[62].
А является ли должным сострадание? В Новое время И. Кант оказался одним из первых критиков «этики блага» и свой взгляд на справедливость он переводил практические потребности развития общественных отношений на язык априорных определений и постулатов разума. Источником такого вида справедливости Кант представляет категорический императив – обязательный нравственный закон, в абстрактной форме выражающий идею равенства и самоценности человеческой личности. Только исходящее из абстрактной рефлексии может быть признано истинно добрым и добродетелью как таковое. Вот почему сострадание по его мысли является проявлением слабости человеческого индивида и не может быть добродетелью.
Необходимость сострадательного отношения к окружающим вытекает из положения о нерасторжимости связи жизни в целом и страдания, оппонирует ему А. Шопенгауэр. Любое человеческое желание вытекает из потребности, из недостатка, из страдания и потому удовлетворение, чувство счастья есть ни что иное, как устраненная мука. Как ни печально и пессимистично, но радость есть лишь конец страдания. Совершенное с добротой, любовью и человеколюбием в другом – это познание чужого страдания, понятое из собственного страдания. В процессе сострадания происходит взаимопроникновение, взаимопознание и обмен духовными ценностями, установление содержания общечеловеческого единства и сравнение с ними своих средств и целей.
Рассмотрение феномена сострадания на когнитивном и концептуальном уровнях подводит нас к следующим выводам:
– сострадание, являясь интимным внутренним человеческим чувством, возникло в глубокой психологической архаике как общебиологический инстинкт самосохранения, удовлетворения групповых эгоистических устремлений и желаний;
– впоследствии по мере усложнения человеческого общества, сострадание вышло за рамки индивидуального чувства и уже мировоззрениях Древнего мира осмыслялся как универсальное, воистину социальное проявление человеческого в человеческом;
– таким образом, как этический феномен, сострадание не удерживается только в индивидуальных помыслах и поступках, а в социально-философском контексте выступает как общечеловеческий принцип построения общественных отношений и непреходящая ценность и важнейший элемент государственной институции социума;
– подлинная сострадательность, деятельное милосердие и человеколюбие приобретают социально-философскую характеристику своего проявления и функционирования и становятся объектом всестороннего философского анализа.
В процессе исследования мы приходим к общему выводу, что без сострадания оказывается невозможным стабильное функционирование общества как гармоничной системы, становится сложным реальная рациональная фиксация в истории событий, феноменов, фактов, что препятствует ощущению общечеловеческого процесса как единого деяния прошлого, настоящего и будущего. А утеря сострадательности ведет к забвению уроков и морали истории, обнищанию человеческого сознания и самосознания каждого человека как части общности.
Замысел данной работы заключался в том, чтобы посредством концептуального анализа раскрыть подлинную сущность сострадания как особого специфического вида нравственного состояния бытия человека. А также попытаться осмыслить генезис и функционирование феномена сострадания как философской универсалии в процессе существования социума. При этом ход развертывания материальной и духовной жизнедеятельности общества как предмет философского исследования рассматривался в рамках этого явления. Все это нашло свое отражение в логике изложения материала посредством использования в органическом единстве общефилософских универсалий и социально-философских, морально-нравственных понятий при раскрытии содержания темы и рассматриваемого явления. В связи с отсутствием современных исследований по данной тематике, автору пришлось давать собственную интерпретацию и определение различным понятиям как социальным, так и моральным.
Не ставя под сомнение целесообразность диалектико-материалистической интерпретации социальной жизни, заметим, что сострадание приобретает статус особого социально-философского понятия, и тем самым, ее функционирование в обществе рассматривается как специфическая форма человеческого существования. «Данное положение исходит из убеждения, что социальная реальность развертывается не только, с одной стороны, как общность, общество и не только как человек, индивид, личность – с другой, но только в неразрывном единстве, в постоянном взаимопроникновении и взаимодействии того и другого. Сущность и существование социальной реальности, основанной и творчески созидаемый в человеческой жизнедеятельности, реализуется одновременно и неразрывно друг от друга, где происходит взаимопереход материального и идеального»[63]. Считаем оправданным и другой вывод: современная философия выступает в качестве опосредующей силы прошлого, настоящего и будущего всеобщего общественного развития человека. Именно такое философское видение объединит научное познание, и практическую деятельность, принципы рациональности и моральные нормы, мир объективного познания и мир духовных ценностей.
Возникновение и дальнейшее функционирование общего морального требования может быть рассмотрено лишь в ретроспективе, т.е. в «прошлом», в процессе последующего теоретического анализа разносторонних общественных связей и отношений. Только в этом случае становится возможным оценка практической значимости той или иной нравственной нормы и морального требования. Однако, в конкретно-историческом плане, во время развертывания «настоящего», мы не можем сказать, насколько верным является та или иная жизненная позиция, тот или иной вид нравственности в «будущем». С опытом, в бесконечном повторении становится видимым необходимость и осознается обязательность предписания. Вот почему иные моральные нормы, законы имеют здесь и сейчас характер действий не рациональных, не отвечающих требованиям целесообразности и прагматичности. Такова суть реализации морали в социуме: ее функции необходимы и полезны обществу, но распознаются только на более высоком уровне социально – исторического обобщения и теоретической абстракции. Сострадание как аксиологический императив осознавался и признается общечеловеческой ценностью, которую сложно вычленить и зафиксировать в социальной жизни, но без утверждения и развития которой невозможно представить дальнейший прогресс человеческого общества.